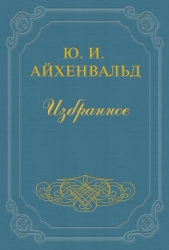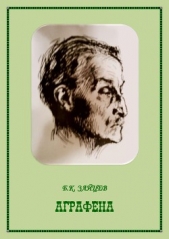Земная печаль

Земная печаль читать книгу онлайн
Настоящее издание знакомит читателя с лучшими прозаическими произведениями замечательного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881 —1972). В однотомник вошли лирические миниатюры, рассказы, повести, написанные в 1900-х — начале 1950-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, конечно, да… — как будто даже равнодушно ответила Анна. — Постараемся.
Марья Михайловна разделась с основательностью, спокойствием. Задула свечу, привычно легла в привычно холодную постель. Анна про себя прочла «Отче наш». Нынче чувствовала она себя особенно одинокой. Метель не унималась. То слабее, то бурней налетали ее шквалы. Не было ли это каким‑то морским странствием на немолодом корабле, поскрипывавшем, дрожавшем, в меру многих лет едва сопротивлявшемся? Впрочем, качки не чувствовалось. Анна и Марья Михайловна лежали недвижно, на спине, как в гробах.
Аркадий Иваныч сегодня заснул. Из его комнаты ни стонов, ни вздохов не слышалось. Снилось ему что‑нибудь милое, прежнее? Или теперешняя Анна?
— Я ведь вас так поняла, — сказала в темноте приезжая, — что вы его невеста?
— Да. Я ушла сюда от родных.
— Вам надо быть терпеливой.
— Я знаю.
Марья Михайловна вздохнула.
— Вы еще так молоды…
— Это ничего не значит. Я его люблю, — твердо сказала Анна.
— Нам, врачам, приходится видеть много тяжелого. Не говорю уж о теперешнем времени, о революции, но и всегда‑то мы окружены бедами. Иногда очень устаешь…
— У вас есть дети?
— Двое.
— Вы их очень любите?
— Понятно.
Анна помолчала, вдруг сказала:
— Любовь страшная вещь.
Марья Михайловна подняла голову. Анна зажгла спичку, закурила. Она полулежала на своем диване, подперев голову рукою. Красноватое сияние от папироски трепетало на ее лице. Что‑то тяжелое, упрямое было в самой позе.
— Страшная вещь. Всего съедает. Вот как эту спичечку — тлеет, золотится… — а там и вся перетлела, ничего не осталось.
Марья Михайловна усмехнулась.
— Ну уж это вы… Я сама была замужем, и тоже любила, но такого страшного ничего не испытала.
— Вы честная докторша… А заметили, что вы нравитесь Аркадию? Несмотря на болезнь?
— Что вы, о чем говорить…
— О том, — продолжала Анна. — О том самом. Ему все красивые нравятся, вот о чем. Ему всех подай.
Начался разговор о любви. Анна высказывала мысли странные, для Марьи Михайловны совсем неприемлемые. Например, что когда ревнуешь, то вполне можно убить, и она бы не удивилась, если бы ее убили. «Странная девушка, — думала Марья Михайловна, — искаженное направление мыслей… а с виду такая здоровая». Анна же утверждала, что она удивилась бы, даже ей было бы неприятно, если бы любимый человек, при ее измене, не убил бы ее.
Марья Михайловна не возражала. Всем своим честным телом, красивыми глазами и прохладно–гуманитарною душой она отрицала «такое». Мягко относясь к людям, подумала, что, верно, Анна многое перенесла.
— Мне одна женщина рассказывала, она очень любила. А он ей всегда изменял… он притом еще женатый был. Это тянулось десять лет. И знаете, она все десять лет страдала, а потом он умер. Она мне и говорит: «Теперь я покойна.
Под землей уж он мне не изменит». Вот что значит ревность.
— Это была сумасшедшая и злая женщина.
— Да, наверно… Все мы сумасшедшие.
Анна замолчала. Несколько времени все было тихо. Она не курила больше. Легла ничком. Вдруг привычное ухо Марьи Михайловны уловило рыдания.
— Анна?
В темноте руки хлопнули по подушке. Несмотря на то что под шубою было тепло, а в комнате холодно, Марья Михайловна добросовестно встала, подошла к дивану. Анна действительно плакала. Утешительница села рядом, стала гладить ей затылок, целовать его.
— Не думайте, что я такая дрянь… Ну, я, конечно, дрянь, но все же не такая. Я вам клянусь, вот святым Божиим крестом, если б сейчас моя жизнь потребовалась для его спасения и счастья, я б минутки не подумала… Но этого не нужно. А выносить, чтобы он с другими ласков был и к другим бы стремился, я все равно не могу… такая родилась.
…Ах, я вам, почти незнакомой женщине, такие вещи рассказываю, но мне нынче очень страшно, очень грустно, так тяжело, некому сказать… Я всю жизнь одна была. Да, я много видела. И всегда мне казалось, что скоро я умру.
Она села и даже прижалась к Марье Михайловне.
— Какой ветер, какая метель! Хоронят нас. Я вспоминаю — я еще девочкой, в такую же ночь, тогда вотчим маму избил… я его хотела сначала зарезать… а потом решила — лучше сама помру… и вот так ночью в метель форточку отворила, высунулась почти голая, все думала простужусь, помру… и выжила… а потом и мамочка умерла, я одна осталась, в чужих людях… Будто бы у дяди с тетей и сейчас живу, работаю. Нет, я это все бросила. Я Аркадия полюбила, я его навсегда полюбила, вы не слушайте, что я иной раз подлости горожу, он слабый человек, но такой хороший, такой ласковый, как никогда еще никто со мной не был. А я стерва… Что он мне плохого сделал? Я по сумасшедшему своему характеру сама все на него выдумываю. А вот теперь он болен.
Анна остановилась. Марья Михайловна чувствовала себя во второй буре. Первая бушевала за стенами, секла снегом, продувала ледяными струями старый дом, от нее зябли ноги. Вторая огнем крутила тут же рядом. От нее слезы медленно стекали по гуманитарному лицу.
Вдруг Анна схватила ее руки, стала целовать.
— Спасите его, помогите… спасите. Я знаю, он ужасно болен, но спасите…
— Успокойтесь, ничего, все обойдется.
Немешаевы разместились в Красном домике, своем бывшем флигеле, с тою простотой и непринужденностью, точно и всегда там жили. Леночка заведовала библиотекой (более финтила в большом доме с приезжими). Муся откровенно ничего не делала. Костя работал.
— Я бы, конечно, с удовольствием дала вам для Аркадия ванну, — говорила Марья Гавриловна, помешивая на печурке пшенку (лениво, но также спокойно, точно всю жизнь этим только и занималась), — но дело в том, что наша ванна, в которой мы еще детей купали, уж не наша. Вы понимаете?
Она поправила накинутую на плечи шубенку, пустила струю табачного дыма и приветливо взглянула на Анну карими глазами.
— Вам придется обратиться к Похлебкину. Чухаева из председателей уже выставили… слишком, оказывается, сам буржуй. А этот еще держится… Пьянствует с новым председателем, сам в Народном доме на сцене играет. Попробуйте к нему обратиться… Да он, кажется, к вам и не совсем равнодушен был… — Она. слегка усмехнулась, — тем лучше. Так, так… Аркадий бедный все страдает… ах–а-ха… Мне и Марья Михайловна говорила. Навещу, навещу, жаль мне его.
Выйдя во двор, Анна поднялась по ступеням стеклянного подъезда. Туда входили и выходили мужики в свитах, в бараньих тулупах, тяжелых шапках. Пузатые лошаденки с монгольскими вихрами, патлами, жевали у комяги корм в подвешенных к мордам мешочках. Анна бывала в этом доме еще когда Немешаевы в нем жили, когда был здоров Аркадий… И встретились‑то они здесь. Да, но сейчас все другое. Некогда об этом даже думать, пришло — ушло, нужно ей только одно, свое.
Мокрые следы вели в залу. Там стоял синеватый туман, едкий запах махорки, полушубков, отсыревших валенок. В комнатах справа за столами строчили белобрысые писаря. Мужики, бабы покорно ждали.
Анна нашла Похлебкина в дальней комнате на антресоли, он был «у себя», в своем «рабочем кабинете» (там же, впрочем, и спал). В данную минуту подзубривал роль. Вечером ему предстояло выступать в Народном доме.
Увидев Анну, искренно обрадовался.
— Редкий гость, милости прошу садиться, давненько не приходилось видеть…
Он был отчасти воодушевлен самогоном, недопитая бутылка выглядывала из‑под этажерки.
— Ах, какое дело, Аркадий Иваныч больны… Жалко, жалко… Ну, бог даст, весной с ним опять на тягу закатимся… Так вы говорите, ванну? Оно конечно…
Похлебкин задумался.
— Ванночка тут вне рассуждения имеется — еще немешаевская. Дело же, однако, в том, что у нас новый председатель… Он сам‑то ничего, живет рядом со мной в комнате, да женат, дитя имеется, развел, знаете ли, всю эту брачную анатомию, ему для дитенка не понадобилось бы, а то, разумеется, для такого случая… с возвращением по миновании надобности… — это уже безо всяких… и никаких рябчиков.