Династия
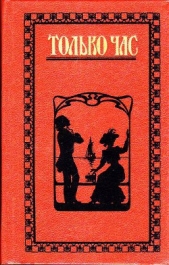
Династия читать книгу онлайн
Варвара Николаевна Цеховская при рождении Меньшикова родилась в 1872 году в городе Боброве Воронежской губернии в небогатой помещичьей семье. Вскоре она с семьёй перебралась на Украину, где продолжалась дальнейшая её жизнь.
Училась в Кременчугской женской гимназии; рано начала публиковаться в киевских газетах, стала профессиональной журналисткой. Она избрала псевдоним — О. Ольнем, под которым публикуются беллетристические произведения писательницы в ведущих журналах первого десятилетия XX века.
Современники соотносили перо В. Н. Цеховской с творчеством писателей чеховского направления. Однако она сама считала себя ученицей и литературной крестницей В. Г. Короленко.[1]
Последний сборник писательницы вышел в издательстве «Задруга» в 1919 году. Далее след ее теряется. Год смерти установить удалось предположительно
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
-- О, как ты всегда хорошо скрывала это!
-- Ты несправедлив. В чем я не уступала тебе? В чем отказала за эти десять лет? Даже прихоти твои, даже...
-- Не хочешь ли ты напомнить, что вот и дом этот, в котором я, изверг, терзаю тебя, невинную жертву, даже и он возведен на средства жертвы?
-- Стыдись, Арсений. Дом возведен для детей наших. Они не только твои, а и мои дети. Я не о доме. Я хотела сказать... что и всячески старалась украсить нашу жизнь... Сделать ее теплее, сердечнее. Скрыть от всех все, что портит ее. Я иду на все уступки. На все решительно. От пустяков до крупного. Ты не хотел, чтобы я играла и пела...
-- О-о? Еще что? Еще какая жертва возложена тобою на алтарь семьи?
-- Не о жертвах речь, об уступчивости. Тебе неприятно было, что я пою и играю...
-- Еще бы. Какому мужу приятно, если жена его завывает с любым встречным лоботрясом: "Так и рвутся уста навстречу дрожащим устам"?
-- Ничего подобного я не завывала.
-- А твоя игра в четыре руки с Химичевым?
-- Он серьезный музыкант. И никогда не относился ко мне, как к женщине.
-- Не верю я в вашу серьезную музыку.
-- Пусть так. Ты не хотел, чтобы я играла? Я подчинилась. Сколько лет не прикасаюсь к клавишам. А я любила играть, Арсений.
-- Умилен столь тяжкой жертвой.
-- Дальше...
-- Есть и дальше?
-- Есть. Много есть. Тебе неприятно было, что я танцую.
-- Еще бы. Обниматься на моих глазах со всяким болваном!
-- Но это принято во всем мире! Ну, дело не в том. Я с удовольствием плясала... Но оставила и танцы. Навсегда. Нигде не танцую. Не выезжаю никуда, где надо быть декольтированной. В самую большую жару не надену ничего прозрачного. Мы живем, как в монастыре. Никто чужой не бывает у нас, и все-таки ты недоволен?
-- Я же говорю: тиран, деспот, изверг, злодей. Отелло... Есть и еще продолжение?
-- О, есть. Я с мелочей начала. Ты отстранил меня от детей. Как ни больно было, я подчинилась. Заметь: подчинилась, хотя не разделяю твоих взглядов на воспитание. По-моему, ласку, нежность ничто не заменит для ребенка, я сама выросла без этого. Знаю, как больно. Но ты захотел, и дети не у меня, а у Артура. Как я не люблю этого человека. Он словно отнял у меня самое дорогое. Точно, обсчитал меня в чем-то. С наслаждением вышвырнула бы его из нашего дома. Чтобы не выламывать души моим детям. А ты...
-- Ксенаша... довольно!
-- Нет, мало. Еще не все, еще мало. Ты поступаешь со мной, как с последней тварью. И это -- единственный близкий мне человек? Отец моих детей... Мой муж, так сказать, защитник.
-- Остановись. Будет. Мне больно. Я не могу больше.
-- А мне не больно? И я не могу больше. Не могу терпеть молча. За что я должна переносить такие унижения? Где бы мы ни были, кто бы у нас ни был, я вечно как на иголках. Не уверена в себе. То ли я говорю, то ли делаю? Не показалось бы тебе что подозрительным. Я не знаю, куда смотреть, потому что ты следишь за моим взглядом. Не знаю, отвечать ли, когда со мной заговаривают. Ведь потом за каждое слово, за каждый случайный вздох, за взгляд -- придется держать ответ, выносить сцены. Я одичала, стала бояться людей. Мне уже в тягость общество. Наконец...
-- Но, Ксенаша, голубка... Ну, умоляю тебя, пощади. Не надо остальных "дальше". Их можно насчитать много, я признаю. Но надо же снисходить к...
-- А разве я не снисхожу? Не стараюсь все понять, все сгладить?
-- Что ж мне делать, если это сильнее меня? Не осуждай строго. Я так люблю тебя. Так хочу понимать тебя всю, без остатка. Знать каждую мысль твою, каждую мечту, причину каждого вздоха, чтобы все принадлежало мне, одному мне... Ты иногда задумаешься и молчишь, а на губах улыбка. Будто мечтаешь о чем-то. А я не знаю, о чем. И не узнаю никогда, вот что убийственно: этот иной, замкнутый в себе, целый мир отдельный. В человеке, с которым я слился воедино, к которому прирос неразрывно. Кажется, размозжил бы себе или тебе голову, лишь бы узнать: да что же там? О чем она думает? Где витает? Что в ее душе таится? Ну, скажи, о чем ты мечтаешь? Вот так, наедине с собою?
-- О покое, Арсений.
-- Не может быть. Ты неискрення и теперь. И теперь не говоришь правды. Ты чересчур молода, чтобы думать о покое.
-- Это оттого, что я никогда не знала его. Мечтаем всегда о недостижимом.
-- Ксенаша, деточка моя, ты несчастлива со мною? Я измучил тебя. И продолжаю мучить. Да, да, сознаю и не смогу сделать тебя счастливой. Одно то, что ты шла за меня, не любя... Что ты как бы заставляешь себя переносить меня, ласки мои и недостатки... Нет, тебе не понять этого. Ведь что такое ревность? Боязнь утраты. Боязнь потерять близкого человека. Его любовь, его присутствие, его покорность.
-- Я понимаю. Но чего ты хочешь? Есть ли хоть одна сторонка в моей жизни, устроенная по моему, а не по твоему вкусу? Нет, нету. И, однако, ты недоволен. Все, что у меня есть,-- все твое. Даже жизнь моя, здоровье. И их я ставлю на карту, лишь бы ты был доволен. Ты не хочешь больше детей, не хочешь дробить имение? Я подчиняюсь и тут. Сколько операций за эти последние годы? В такое короткое время. А мне так хотелось иметь девочку. Уж ее бы не отняли у меня для Артура. Но ты сказал: какая гарантия, что будет девочка, а не мальчик? И я согласилась. Да, гарантии быть не может. Все, все по-твоему. Я подвергаю себя смертельной опасности, лишь бы...
-- Но, Ксенаша? Ведь профессор...
-- Что ж профессор? И профессор говорит то же. У меня железное здоровье, но и для него есть пределы. Ткани дряблеют, надрывается организм. Нельзя насиловать его до бесконечности. Вот, перебои сердца появились... Откуда? У меня было богатырское сердце. Никогда не чувствовала, есть оно или нет. А теперь перебои. Ты говоришь: нервное? Хорошо, допустим, но откуда они? Я не хочу больше этого риска. А ты подозреваешь гадость. Будто я жажду научиться секретным средствам. Чтобы изменять тебе с безопасностью. Ведь я знаю: ты не позволил профессору...
-- Опять упрек? Я же просил: довольно корить, не будь жестокой. Когда ты хвораешь в X.,-- разве я мало терзаюсь? Сколько страха. Какая жалость к тебе. Какие угрызенья. Не для меня же это? Все для них, для детей. Для их будущего. Я седеть начал из-за тех операций.
-- Лучше бы ты не седел, Арсений. А вот странно, я забыла рассказать тебе. Перед вечером была здесь цыганка. В парке. Взялась гадать мне и сказала: "Если загубишь, сама загнешься". Ты понимаешь? Поразительно ведь? Правда? Мне стало очень жутко.
-- Вот ерунда. Как она проникла сюда? Чего Ефрем смотрел? Собаками бы ее.
-- Эх ты... помещик. Собаками... Однако, день на дворе? Уже четыре. Я так устала. Вся, вся разбита. По всем швам, по всем суставам. И голова кружится...
-- Помочь тебе раздеться?
-- Не надо. Я сама. Уходи, Арсений. У тебя сенокос сегодня. Иди, тебе пора. А я вся, вся разбита.
_______________
Сенокос был в разгаре.
Звенели, сверкая, на лугах косы, косили траву в старом парке.
Рано утром шел купаться Павел Алексеевич, пока не исчезла ночная свежесть в воде и в воздухе. Он любил купаться на открытом месте и по утрам ходил не в купальни, что стояли у подножия молодого парка, а подальше, на песчаную косу за поворотом реки. Дышалось пока свежо. В тени над прудами висел туман, как сплошное облако. И над струистой рекою под солнцем еще не рассеялся пар, похожий на золотой дымок, хотя уже отделился от поверхности воды. Тенисто было в аллеях, поблескивала роса на траве, на не скошенных пока полянах еще не свернулся от солнца нежно-голубой цикорий. Напоминая звуки флейты, посвистывали вблизи Вадимовой пасеки иволги. Горлинка по-утреннему, без умолку и передышки, укоризненно и сокрушенно повторяла свое настойчивое: кру-кру-кру...
В мешковатом полотняном пиджаке, в смятой ночной рубахе, без жилета и нараспашку благодушествовал на свободе Павел, уже подбодренный утренним впрыскиваньем. Он отпер калитку у ворот, вышел на дорогу и остановился, глядя вдаль. По дороге кто-то катил в отдаленье, коляска сделала поворот с большой дороги к парку. Павел Алексеевич приложил к глазам козырьком руку.


























