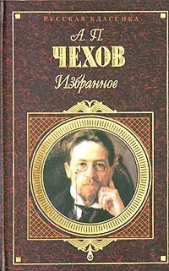Цвет и крест

Цвет и крест читать книгу онлайн
Издание состоит из трех частей:
1) Два наброска начала неосуществленной повести «Цвет и крест». Расположенные в хронологическом порядке очерки и рассказы, созданные Пришвиным в 1917–1918 гг. и составившие основу задуманной Пришвиным в 1918 г. книги.
2) Художественные произведения 1917–1923 гг., непосредственно примыкающие по своему содержанию к предыдущей части, а также ряд повестей и рассказов 1910-х гг., не включавшихся в собрания сочинений советского времени.
3) Малоизвестные ранние публицистические произведения, в том числе никогда не переиздававшиеся газетные публикации периода Первой мировой войны, а также очерки 1922–1924 гг., когда после нескольких лет молчания произошло новое вступление Пришвина в литературу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– И за три не расстался бы, – сказал он…
Это и все, что я хочу сказать: необъяснимых причин в стремлении крестьянина удержать теперь свой запас для себя нет никаких.
Письма в провинцию
Милая моя тетушка, хорошая моя, старосветская вы моя! Не обижайтесь только, пожалуйста, на старосветскую – это лучше всего. Довез я ваш окорок до Петрограда благополучно, сейчас он уже коптится, но в дороге много он причинил мне хлопот. Вы мне советовали подсунуть его под нижнюю лавку, потому что внизу холоднее, я так и хотел сделать, но там внизу был чей-то другой окорок, и корзина с яблоками; пришлось определить его на самую верхнюю полочку, и оттуда он, где-то возле Лебедяни, рухнул вниз.
– Это ветчина, я у вас ее реквизирую! – сказал один господин в форме.
– Сделайте, – говорю, – одолжение, – кушайте.
– Этого, – отвечает, – мало, еще штрафу 500 р., и три месяца тюрьмы.
– Шутите, – говорю, – это нарочно.
– Как шучу, вчера один помещик тоже втяпался с телятиной: протокол составили, телятину отобрали.
Потом он смилостивился, сам помог мне наверстать на окорок больше газет, чтобы не похоже было на ветчину, и, подвинув корзину с яблоками, уложил под нижнюю лавочку, рядом со своим окороком. Чудеса творятся! Как будто мы переезжали не границу Орловской и Тамбовской губерний, а двух экономически воюющих стран, как будто перед таможней многие, напуганные словами чиновника, стали подальше запрятывать свое съестное добро. И вот даже здесь, в Петрограде, я не мог добиться правды: имел ли я право везти с собой окорок или нет. Так это напомнило мне далекие студенческие времена, когда, бывало, едешь к вам в деревню и везешь тюк нелегальной литературы: Бебеля, Каутского, Энгельса. Как переменилось время! Раньше прятали Бебеля, а теперь окорок. «Это символ!» – восклицает наш батюшка. И я присоединяюсь к нему: да, это символ; этот окорочный интерес ныне объединил всю Россию и стер ту обычную пропасть между столицей и провинцией. Раньше я приезжал из деревни, как из неведомой страны, и меня влекло рассказывать здесь о ней свои сказки. Теперь этим здесь никого не удивишь, потому что сами столичные люди стали провинциальными, но только без сказок. Вот, бывало, сидишь у вас на балконе, впереди наш обыкновенный пейзаж, налево возле конюшни свежуют барана, а вы тут, глядя на барана, возбуждаете аппетит: «Ну, и баранчик, чесночком бы его нашпиговать, схожу за чесночком, а ты сбегай на парники за салатом». В столице же, как и откуда получается продукт, было неведомо. Теперь этим заняты все, и гораздо больше, чем в провинции, и так все перевернулось шиворот на выворот, что уже рассказывать хочется в провинцию, а не сюда с провинции. Но сказки съестные не идут на ум (сказки у нас политические), да в том-то и разница с прежним, что это новое городское еще не успело обрасти сказкой, и между нашей прежней жизнью в провинции и этой новой такая же разница, как между красным пасхальным яичком и белым яйцом с пятнами грязи, прямо из-под курицы.
Я вам передал самую характерную черту времени, что жизнь наклонилась в материальную сторону, но я больше скажу: в погоне за материальным она приобрела черты искусства спортсменского. Вот, например, наш Александр Михайлович, чиновник средней руки, жалованье рублей что-то четыреста. Бывало, он отслужит свои шесть часов и потом читает по археологии, или едет в какое-нибудь общество слушать доклад. Теперь после службы Александр Михайлович наметит себе, например, масло или говядину, или сахар и отправляется путешествовать по кооперативам. Не легко это путешествие по нынешним временам: трамваи переполнены, не всегда удается даже стать, а часто прицепишься и висишь. Еще труднее потом ехать домой с добычей. Измученный спортсмен приезжает, наконец, домой с маслом.
– Почем купил? – спрашивает Софья Павловна.
– По рубль восемьдесят, – торжествующе говорит Александр Михайлович.
– А Сергей Петрович купил по 90 к.
– Как!..
И начинается длинный разговор о том, как и где ухитрился Сергей Петрович (приват-доцент истории) купить масло по 90 к. Вчера я видел трех лиц, которые купили масло в один и тот же день: один за 90 к., другой за 1 р. 80 к. и третий за 3 р. 60 к. – это истинная правда. И так во всем решительно, особенно плохо с мясом. В мясном хвосте вы, конечно, не увидите чиновника и приват-доцента: в мясной хвост из лавки поступают какие-нибудь жалкие обрезки по существующей таксе. А хорошее мясо продается по рублю, по рубль двадцать и больше (цены всевозможные) с заднего хода; мясник своих клиентов извещает обыкновенно по телефону. Так муж и превращается в спортсмена по мясным, масляным и всяких таким делам, а жена готовит сама в кухне, потому что прислуга с 8 утра и часто до четырех стоит в каком-нибудь хвосте. Вы спросите, что же делают в это время власти, как они это допускают. Я отвечаю вам: власти работают в комиссиях. На каждый предмет потребления существует своя комиссия. Вы себе даже и вообразить не можете, какой огромный труд несет на себе каждый из членов комиссии, какие тут сидят ученые, трудоспособные и даже честные люди. Дни и ночи работают эти бесчисленные комиссии, из них, как из колодцев, ручейки текут в реки, так текут из комиссий всевозможные доклады в особое совещание, а потом из особого совещания по рекам и ручьям плывут в нашу обывательскую жизнь: твердые цены, таксы, нормы, правила, законоположения и проч. У нас представляют себе так, что… общество страдает. Здесь, в комиссии, думают наоборот, что страдают, отдавая себя целиком на службу государству, чиновники… Дело в том, что пока живая мысль какого-нибудь члена комиссии воспримется всеми членами ее, пока она будет разработана и затем доложена в особое совещание и там опять переработается и окончательно затвердеет, за этот большой промежуток времени живая мысль отдельных свободных людей уже превращается в деньги – так получается, что на одной стороне бревна-мысли, по другой деньги. Вот, например, до чего додумались колбасники. Твердая цена на мясо приплыла, наконец, в Сибирь. Тогда сибиряки, в обход твердой цене, стали подсаливать мясо и торговать им без всякой таксы, как материалом для изготовления колбасы. И началась в Сибири мясная вакханалия, поголовное истребление скота и приплода его, будто бы во имя колбасы, продукта народного питания (два рубля фунтик). Теперь это заметили и начинают разрабатывать в комиссиях меры против колбасы. Но пока разработают и убьют спекуляцию, на этой стороне еще что-нибудь придумают. Трагедия! О том, как делу этому помочь, я спрашивал одного экономиста, работающего в комиссии. «Ничего не поделаешь, – ответил экономист, – экономический закон прежней жизни состоял в том, что предложение было больше спроса, а теперь спрос обгоняет предложение, и мы за этими не можем угнаться».
В результате – положение нашего Александра Михайловича, археолога, занимающегося мясным и масляным спортом, и положение хотя бы нашего родственника Ивана Петровича. Захожу я на днях проведать его. Помните, мы его называли Онегиным из купцов: человек и с деньгами, и с головой, как тень, бродил между нами и не знал, за что взяться, ездил в Бельгию изучать стеклянное дело – ничего не вышло, хотел эксплуатировать торф – не довел до конца, и многое-многое, о чем вам было известно и чему и над чем мы раньше просто смеялись. Посмейтесь же теперь! Заглянул я к нему: у него теперь мыловарение, фабрика гигроскопической ваты и чего-чего нет. А чего-чего мы не ели у него в это голодное будто бы время: икра, вестфальская ветчина, всякие семги и балыки, коньяк превосходный, вино и даже шампанское! Закусили мы с ним, выпили – превосходное расположение духа. Немцев очень хочет разбить. Смеялся над моим народолюбием.
– О ком, – говорит, – тебе теперь скорбеть, о России? Россия покрывается сетью железных дорог и фабрик. Кого проклинать, бюрократа? Он теперь умирает и скоро умрет естественной смертью или насильственной – все равно. Кого жалеть, мужика? Мужик богат. Рабочего?