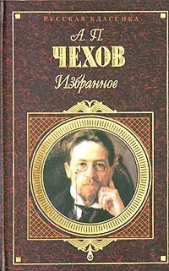Цвет и крест

Цвет и крест читать книгу онлайн
Издание состоит из трех частей:
1) Два наброска начала неосуществленной повести «Цвет и крест». Расположенные в хронологическом порядке очерки и рассказы, созданные Пришвиным в 1917–1918 гг. и составившие основу задуманной Пришвиным в 1918 г. книги.
2) Художественные произведения 1917–1923 гг., непосредственно примыкающие по своему содержанию к предыдущей части, а также ряд повестей и рассказов 1910-х гг., не включавшихся в собрания сочинений советского времени.
3) Малоизвестные ранние публицистические произведения, в том числе никогда не переиздававшиеся газетные публикации периода Первой мировой войны, а также очерки 1922–1924 гг., когда после нескольких лет молчания произошло новое вступление Пришвина в литературу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И рассказал он мне об одном рабочем, мастере-слесаре, что он будто бы зарабатывает около тысячи рублей в месяц и что однажды на его, на Ивана Петровича, глазах, чтобы не стоять в мясном хвосте и не терять золотого времени, купил себе икры за восемь рублей фунт и весь фунт тут же на его, Ивана Петровича, глазах и съел.
– С булкой? – спросил я.
– С булкой, – отвечает.
– А как же он булку достал?
Иван Петрович тут немного смешался и сказал, что булку он как-то достал. И я понял, что рабочий с икрой – это легенда сытого и довольного собой человека, тем более что потом в тех же выражениях о рабочем с икрой рассказал мне и Костя. Вот тоже и Костя, посмотрели бы вы теперь на Костю! И мало ли их таких. Общее мое впечатление от этой жизни такое, что теперь как-то все продается и все можно купить и все есть, лишь бы были деньги, что брать с собой окорок у тетушки из деревни смешно человеку молодому, энергичному и образованному. Простите, милая тетушка, я подарил этот окорок нашему бедному археологу, а сам что-нибудь выдумаю, непременно что-нибудь выдумаю и скоро буду богат и привезу вам в деревню окорок и не простой, а вестфальской ветчины нашего национального русского, изготовления. Целую вас, дорогая моя. Любящий вас племянник
Михаил Хрущевский
Дорогой батюшка, о. Афанасий! Напишу вам в этот раз, как я нашел себе место, как устроился и какие перемены вижу вокруг себя. Помните то время в начале войны, как многие из нас одевались в военное платье, и кто мог воевать – воевал, кто не мог – лечил и собирал раненых, кто и этого не мог – ехал так, посмотреть на войну. Всех тянуло туда. Теперь тянет в обратную сторону – к делу продовольствия армии и населения. Потому ли это стало теперь самое главное, по другим ли каким причинам, но маскарад продолжается: тогда переодевались в военное, теперь в чиновничье, все хотят стать чиновниками. Мы с вами думали: стоит мне явиться сюда и сказать, что я агроном, практический хозяин, и меня сейчас же подхватят и назначат заниматься продовольствием. Не тут-то было: это у нас в деревне пустота и безлюдье, а в городе народу хоть отбавляй, куда больше, чем до войны, война тут совсем незаметна. Я целый месяц метался по канцеляриям правительственных учреждений, всюду подавал прошения с двумя рублевыми марками, бумаги куда-то уходили, рубли пропадали. Словом, попасть к делу казенного продовольствия было гораздо труднее, чем раньше попадать на передовые позиции. Но я думаю теперь, что причина неудач моих была в том, что я шел обыкновенным, формальным путем и как-то не попадал на человека. И вот однажды мне выпало счастье: шел я к одному действительному статскому советнику, не думая просить место у него в канцелярии, а только посоветоваться. Выслушал он меня внимательно, ничего не сказал, взял под руку, познакомил со всеми в канцелярии, потом положил на пустой стол какие-то дела, зажег электрическую лампочку. «Довольно, – говорит, – вам шататься, садитесь, служите! – А как же, – говорю, – прошение? – Вот пустяки, не все будет дело, как-нибудь на досуге возьмете, да и напишете, с Богом, служите!»
Знаете, батюшка, было такое чувство у меня странное: я хорошо помню, как вас посвящали в дьякона, как в торжественном облачении архиерей маленькими ножницами подстригал вас и два протодьякона, рыжий и черный, размахивали кадилами и создавали над вашей склоненной головой целое небо из ладана. А меня посвятили слишком уж просто, провели в кабинет, показали, я вошел, а они – щелк! – и закупорили. Щелк! – и здравствуйте: я – Государя нашего коллежский регистратор.
Между тем, это не шутка, и я все равно, как и вы тогда, вступил в мир совершенно иных отношений, и обыкновенный полевой мир стал для меня недоступен. Знаете, сколько нас таких здесь? Недавно градоначальник этим поинтересовался. Подсчитали: восемь миллионов! Всего живущих в Петрограде около трех миллионов, а чиновников оказалось восемь. Как это вышло? А вот как: один и тот же чиновник часто служит в различных учреждениях, а в особенности теперь, с развитием кооперативного дела, один обслуживает десятки кооперативов. Но как бы ни была нелепа эта статистика, сущность того, что я хочу вам сказать, она передает: на три миллиона живых людей в этом городе приходится восемь миллионов таких состояний человека, каждое из которых носит название чиновника. Значит, по численности дело ничем не хуже, чем в вашем сословии, и я стал одной восьмимиллионной частью этого великого аппарата, но над моей головой не покадил протодьякон.
Когда меня так посвятили, я вдруг почувствовал себя маленьким человеком, приготовишкой каким-то: копаюсь, ничего не понимая, в бумагах, озираюсь, прислушиваюсь к шелесту бумаг его превосходительства – вот-вот войдет, спросит и единицу поставит. Мелькнула мысль: бежать! Но я отогнал ее и решил как-нибудь действовать. Вот лежит «входящая». На ней рукою начальника синим карандашом написано: «Вытребовать из штаба сто экземпляров правил». Беру телефонную книжку, звоню в штаб, спрашиваю… Там ничего не понимают, в канцелярии смеются, входит его превосходительство:
– Да разве так можно! Напишите отношение!
Смеется:
– Человек прямо с огорода!
И, как бы извиняясь пред кем-то:
– Ничего не поделаешь, время изменилось, людей нет, теперь все такие: беда мне!
Я защищаюсь: для чего писать бумагу, когда можно по телефону в один момент.
– Кто же вам что-нибудь даст по телефону, какие у него будут оправдательные документы?
– Ваше превосходительство, – говорю, – я был на фронте, там по телефону целые корпуса передвигают.
– То на фронте…
Хотел, было, я сказать, что скорость не мешает и в тылу, и в особенности в нашем деле продовольствия, но не посмел, побоялся, возьмет сразу и прогонит. Только так задумался вообще о бумаге: мне представилось, что бумага – это символ мира на земле, чем дальше от войны, тем больше бумаг. Груды бумаг входящих лежали на моем столе, целые шкафы стояли бумаг использованных. Я покопался, нашел как раз такую же, как моя, и написал по ней свою, потом написал таким же способом вторую, третью – и вдруг почувствовал радость: как будто одна восьмимиллионная часть всего этого мира соединилась со всеми остальными миллионами в одном великом бумажном деле, и почувствовал легкость необыкновенную. Но это продолжалось не долго, бумаги написанные нужно было нести для подписи, и вот тут началось:
«Признавая чрезвычайно важное значение постного масла для обороны государства…», – читал его превосходительство и ворчал, черкая синим карандашом: – Признавая! Вас никто не просит признавать, это уже давно всеми признано, – писал: «Учитывая чрезвычайно важное значение постного масла…»
Начеркав так по всем моим бумагам, он заставил меня вновь переписать. Я переписывал, отдавал переписывать барышне-машинистке, та в свою очередь, делала ошибки, я заставлял ее переписывать, и до самого конца занятий я не добился подписи его превосходительства, и он, схватив карандаш, быстро-быстро стал сам писать эти бумаги по-своему.
Дня два-три я был в полном отчаянии, и у меня ничего не выходило, на третий день я решил делать, как выйдет, и если выгонят меня, то пусть выгонят. И, представьте себе, вышло очень хорошо, начальник меня похвалил. Вскоре я понял причину моих неудач: я относился к делу слишком серьезно для моего все-таки значительного положения. Вам это, батюшка, совсем непонятно, а оно так: самое серьезное существо в нашем бюро, конечно, барышня-машинистка, она весь день стучит, и вся как-то замочалилась от работы, и она будет стучать вечно, движения по службе ей не будет никогда. Регистратор – следующая ступень – тоже много работает, но он все-таки иногда попробует пошутить, и очень медленно, но все-таки движется. Помощник делопроизводителя еще больше шутит и, конечно, быстрее регистратора движется по службе, и так далее, до моего начальника: тот шутит много, у него даже есть нотка иронии ко всему нашему восьмимиллионному аппарату, но все-таки он слишком серьезен, трудолюбив и прям, чтобы иметь надежду когда-нибудь сделаться министром. Так, оказывается, что некоторая доля легкомыслия в государственных людях есть качество необходимое и полезное. Батюшка, вы меня извините, но это понятно: сама жизнь очень легкомысленна, у нее нет ни малейшего постоянства, а министр очень близок к жизни: жизнь меняется, и министры меняются, сегодня один, завтра другой.