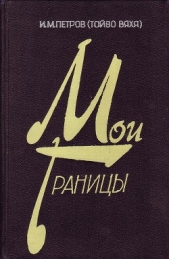Воспоминания
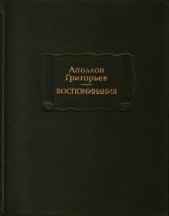
Воспоминания читать книгу онлайн
Ап. Григорьев хорошо известен любителю русской литературы как поэт и как критик, но почти совершенно не знаком в качестве прозаика.
Между тем он — автор самобытных воспоминаний, страстных исповедных дневников и писем, романтических рассказов, художественных очерков.
Собранное вместе, его прозаическое наследие создает представление о талантливом художнике, включившем в свой метод и стиль достижения великих предшественников и современников на поприще литературы, но всегда остававшемся оригинальным, ни на кого не похожим.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Просьбы-«вызывания» M. M. Достоевского, о которых Григорьев пишет в своих воспоминаниях, наверное, относятся уже к возвращению Григорьева в Петербург летом 1862 г.: как видно, замысел расширился, и писатель решил начать с самого раннего детства.
«Reisebilder», упоминаемые Григорьевым в письме к Страхову, — это известные «Путевые картины» Г. Гейне. Воздействие метода и стиля гейневских очерков и мемуаров на европейскую литературу бесспорно, но меньше всего, пожалуй, они повлияли на автобиографическую прозу Григорьева: последнему была весьма чужда злая, разящая, разрушающая ирония Гейне, которую русский критик истолковывал как необычайно талантливую, имевшую законный успех благодаря «болезненной» эпохе романтизма, но иронию без основы, корней, без веры, так как автор — космополит и «вечный скиталец». [199]
Можно говорить лишь о преломленном влиянии Гейне на григорьевскую прозу: Гейне, несомненно, оказал воздействие своими очерками и мемуарами на «Былое и думы» Герцена, а это произведение было явно в поле зрения Григорьева, когда он трудился над книгой «Мои литературные и нравственные скитальчества». П. П. Громов остроумно предположил, что «сам замысел книги во многом обусловлен полемическим заданием противопоставить изображению процесса идейного формирования под воздействием русской действительности борца-революционера, в „Былом и думах“ совершенно иное освещение (в особой художественно форме, во многом близкой — хотя и в порядке отталкивания — к стилистике гениальной книги Герцена) того же или очень близкого отрезка русской действительности. Если вспомнить, что Григорьев в своих работах часто полемизировал с Герценом, то такая трактовка его художественных мемуаров может оказаться вполне правдоподобной». [200]
В общих чертах эта трактовка имеет основание, в самом деле, «отталкивание» от «Былого и дум» у Григорьева было — и в содержании, и в форме. Но было и серьезное следование Герцену. Нельзя ведь забывай что именно к концу 50-х-началу 60-х гг. отношение Григорьева к Герцену сильно меняется, становится почти апологетическим (полемика, упомянутая Громовым, велась раньше). Это видно не только по измененным оценкам известного романа «Кто виноват?» в печатных критических статьях (прежде именно «Кто виноват?» был. главным объектом критики), но и по бесцензурным характеристикам. — Григорьев писал к И. С. Тургеневу 11 мая 1858 г.: «Скажите Александру Иванович; (Герцену, — Б. Е.), что сколько ни противны моей душе его цинически отношения к вере и бессмертию души, но что я перед ним как перед гражданином благоговею, что у меня образовалась к нему какая-то страстная привязанность. Какая благородная, святая книга „14 декабря“!.. Как тут все право, честно, достойно, взято в меру». [201] А в упоминавшемся уже письме к Е. С. Протопоповой от 26 января 1859 г. он называет идеи Герцена «смело и последовательно высказанным исповеданием того, чем некогда жили как смутным чувством мы все». [202] Подобные отзывы о Герцене содержатся и в тексте воспоминаний Григорьева: «…гениально остроумный автор писем о дилетантизме в науке», в том числе и отзывы именно о «Былом и думах»: «Один великий писатель в своих воспоминаниях сказал уже доброе слово в пользу так называемой дворни и отношений к ней, описывая свой детский возраст» (с. 69, 15–16).
Есть сведения, что Григорьев приобретал продукцию лондонской типографии Герцена, не только пребывая за рубежом, но и в России: агент III отделения доносил начальству 30 января 1861 г., что критик «иногда дает читать знакомым запрещенные книги, печатаемые за границею». [203] Курьезно, что царская охранка получила анонимный донос на Григорьева — якобы он организует политический заговор! Поэтому за ним и была установлена тайная слежка. Лишь после того, как несколько агентов в течение месяца следили за каждым шагом и словом Григорьева и убедились в абсурдности доноса (самая большая вина подозреваемого выражалась в чтении нелегальных книг — но тогда все их читали!), надзор был снят.
Нужно, конечно, учитывать что Григорьеву был чужд атеизм Герцена, его социально-политический радикализм, но зато были исключительно близки и страстные протесты Герцена против любого мракобесия, и его восторженное отношение к мужественным деятелям декабризма и страшного последекабрьского периода, и преклонение перед русским народом, и его художественный талант, и конечно же — благородная, стойкая, трагическая фигура самого автора. Знаменитая книга «Былое и думы» оказала глубокое воздействие на воспоминания Григорьева, прежде всего своим изумительным сплавом лиризма и историзма.
Лиричен, «субъективен» Григорьев был и сам достаточно, здесь для него не было необходимости в заимствовании, но историзма его литературным трудам в 50-х гг. явно не хватало. И углубление его исторического мышления в начале 60-х гг. происходило, наряду с другими «веяниями» эпохи, и под воздействием «Былого и дум». Большая, по сравнению с предшествующим десятилетием, историчность оценок заметна, например, в его критических статьях, и особенно — в статьях ретроспективных, историко-литературных, посвященных 30-40-м гг. XIX в.: Григорьев в журнале Достоевских «Время», незадолго до своих воспоминаний, публикует целую серию статей, которая впоследствии H. H. Страховым была озаглавлена «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина», — «Народность и литература», «Западничество в русской литературе. Причины происхождения его и силы. 1836–1851», «Белинский и отрицательный взгляд в литературе», «Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия»; в этом цикле Григорьев явно проникается «гегелевским» принципом исторической закономерности и исторической обусловленности литературных явлений.
Элементы историзма, разумеется, проникли и в воспоминания. Они позволили Григорьеву дать превосходные характеристики общественно-литературным течениям и событиям: такова, например, его оценка двойственности европейского романтизма, т. е. реакционных и радикальных тенденций в рамках этого направления; Григорьев ясно увидел связь, идей Руссо и деятелей Великой французской революции, художественного творчества Вальтера Скотта и европейской реставрации (примеры взяты из VII и VIII глав «Детства») и т. п. Как бы вслед за Чернышевским Григорьев очень высоко отзывается о деятельности предшественников Белинского — Полевого и Надеждина (см. гл. V «Детства»).
Правда, многое в сложной истории XVIII–XIX вв. ему оставалось, неясным или чужим. Он, например, искренне удивлялся, почему это «демократ» Погодин так враждебно относился к «другому демократу» — Полевому? К революционным действиям и идеологии XVIII в. как к «насильственным» Григорьев по-прежнему относится настороженно, отчужденно. И тем не менее страстная, яркая книга его воспоминаний, несомненно, находится в сфере влияния 60-х гг., влияния духа раскованности, свободных исканий истины, полемического задора. Мы ясно ощущаем при чтении воспоминаний, как мучительно бьется противоречивая мысль автора, стремящегося понять закономерности истории. А несколько, может быть, архаичный романтизм мышления оказывается, с другой стороны, своеобразным способом отталкивания Григорьева от всего консервативного, застойного, рутинного; романтизм ведет автора к сочувствию «тевтонско-греволюционному движению», как назвал критик период, начавшийся «бурей и натиском», Клошптоком и драмами Шиллера и приведший к «кинжалу», т. е. к кинжалу Карла Занда, убийцы Коцебу, к террористическим революционным актам начала XIX в., и, конечно же, — особенно важно подчеркнуть преклонение Григорьева перед декабристами, выраженное и в его воспоминаниях, и в критических статьях начала 60-х гг.
Объективные или относительно объективные воспоминания Григорьева в разных пропорциях и в разных ракурсах сливаются с лично-интимными (у Герцена, собственно говоря, тоже эти связи проявляются по-разному, но изменяются они лишь единожды: много раз уже писалось, что самое тесное слияние личного и общественного наблюдается в первых пяти частях «Былого и дум», последующие же части менее личностны, посвящены главным образом событиям и персонажам вне интимной жизни автора).