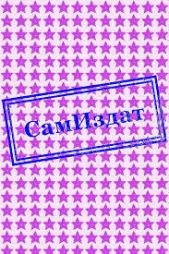И всякий, кто встретится со мной...
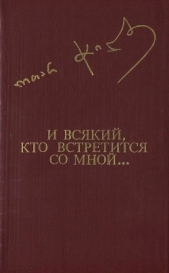
И всякий, кто встретится со мной... читать книгу онлайн
Отар Чиладзе - известный грузинский писатель, поэт и прозаик. Творчеству его присуще пристальное внимание к психологии человека, к внутреннему его миру, к истории своего народа, особенно в переломные, драматические периоды ее развития. В настоящую книгу вошел социально-нравственный роман из прошлого Грузии "И всякий, кто встретится со мной…" (1976), удостоенный Государственной премии Груз.ССР им.Руставели.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Братья? Как бы не так! — орал Петре, когда мать в очередной раз пыталась вызвать его на откровенность, разжалобить, усовестить.
Мать Петре любил, но одно дело любовь, другое — справедливость. Конечно, мать должна была нести последствия своего греха, заботиться о плоде этого греха, раз уж она его родила, — но не за счет же Петре! Он-то честно ждал своей очереди родиться — а тот без очереди выскочил вперед, решил незаконно заполучить старшинство. Но есть еще на свете, слава богу, и справедливость, и законы…
— Скажи спасибо, что отец его вообще кормит, — хмуро говорил Петре матери. — Если мы вас простили, это еще не значит, что он всем на голову должен сесть…
Все нутро Анны обливалось горечью, но, не зная, что на это ответить, она лишь растерянно улыбалась.
— Что ты смеешься? Не прав я, что ли? — по-своему понимал материнскую улыбку Петре. «Ну вот… возразить нечего!» — думал он про себя.
— Отчего ты, сынок, в утробе у меня не задохся? — взвывала наконец Анна таким голосом, что Петре вздрагивал всем телом и, не на шутку напуганный и ошеломленный, спешил прочь.
«Сынок, сынок, сынок… как же ты, бедняга, жить-то будешь?» — плакала в душе Анна… Вот так и шло время в обнесенном высокой каменной оградой доме Макабели, и однообразное, бесконечное, ни на миг не прекращавшееся, похожее на короткие толчки тиканье огромных, как шкаф, часов звучало, как шаги тюремного сторожа. Но однажды вечером Георга исчез. Он не вернулся с виноградника, и все решили, что он опять остался там ночевать. На следующий день Петре пошел к нему — не для того, чтобы проверить, не случилось ли с ним чего-нибудь, а просто так, по обыкновению: взглянуть, как он работает, как идут дела. В винограднике его встретил один осел; услыхав шаги Петре, он поднял голову и долго внимательно глядел на него. Вокруг глаз осла тянулась узкая полоска белых волос, как бы очерчивая эти большие влажные глаза мелом, чтобы сделать их еще круглей и ярче…
— Ну-с… где же твой дружок? — спросил его Петре. — Ты нашего парня невзначай не видал? — окликнул он крестьянина, работавшего на соседнем винограднике.
— Вот я и говорю… со вчера не показывался! — ответил тот, опершись на свой заступ. Пользуясь свободной минуткой, он прижал большой палец к ноздре и с шумом высморкался.
— Со вчера? — удивился Петре.
— Ну да-а-а… — протянул крестьянин.
— Вот он, кормилец наш! В разгар работы бросил виноградник и сбежал! — сообщил, вернувшись домой, Петре.
— Сбежал? — удивился Кайхосро. — Куда он, к черту, мог сбежать?
У Анны подкосились колени, и она прижала сжатые в кулак руки ко рту, словно чтоб согреть их. И Петре, и Кайхосро невольно взглянули на нее, и их настойчивый взгляд испугал ее еще больше. «Умер… скрывают!» — мгновенно промелькнуло у нее; но она тут же почувствовала, что они действительно ничего не знают и ждут ответа от нее. У нее отлегло от сердца. Лишь бы он был жив, а там пусть идет куда хочет, хоть за тридевять земель, хоть совсем с глаз долой! Возможно, это было б и лучше. Конечно, лучше: он хоть избавился б от всей этой оравы, свободнее вздохнул бы, сам о себе позаботился бы… Уж такой-то хлев для него найдется везде! Ей захотелось сказать им что-нибудь злое, беспощадное — что они напрасно удивляются, что они сами этого добивались, что удивительно лишь то, как он терпел их до сих пор. Но она вовремя спохватилась, прикусила язык, пожалела и их, глядевших на нее растерянно, смущенно, обескураженно, понявших наконец, как ей показалось, свою несправедливость… Понявших? А почему они не могли понять, увидеть, почувствовать? Ведь даже пропавшую собаку или скотину человеку жалко; а он-то был все-таки не собака, не скотина — он и поговорить с тобой мог, и воды принести, и дров нарубить! Впрочем, наглядевшись на Анну, они оставили ее в покое: у обоих хватило ума и такта не приставать хоть к несчастной матери с вопросом: «Где твой сын?»
Чего только не говорили о Георге всю последующую неделю в лавке Гарегина! Одни утверждали, что его видели в Тбилиси мальчиком у какого-то купца; другие клялись, что он записался в грузинскую милицию и собирается вместе с русскими отбирать у турок исконные земли. Кто-то верил этому, кто-то нет; одни жалели его, другие считали дураком. «У турок он завоюет то же, что и его отец…» — добавляли эти последние. Но единственное верное известие о Георге принес опять-таки Петре — через неделю.
— На винограднике торчит. Вскапывает… — сказал он.
Придя в себя, она уже бежала по узкой улочке между изгородями. В одной ее руке была сорвавшаяся с головы косынка, другой она придерживала подол платья, чтобы бежать быстрей, — и она бежала, как десятилетняя девочка, не думающая о том, что деревенские мальчишки могут увидеть ее ноги, мчалась, как повелительница неба и земли, всю жизнь находящаяся в полете и ни семьей, ни деревней не обремененная. Деревни она и не замечала — не слышала разъяренного лая рвавшихся к заборам собак, не видела собравшихся у родника женщин, которые, скрестив руки на груди, подняв плечи и сложив губы трубочкой, молча глядели ей вслед, не стеснялась и мужчин, гурьбой выбежавших из лавки Гарегина. Она бежала, вот и все — стесняться ей было нечего, это было ее дело и никого, кроме нее, не касалось. Она бежала к сыну, к вернувшемуся, вторично родившемуся сыну, — бежала так, словно они не виделись целый век, словно век назад они условились встретиться за деревней, в горячем от солнца винограднике, и теперь час этот настал. Теплая, мягкая пыль ложилась ей на лицо, грудь, волосы, мешала дышать, проникала в пересохший от волнения рот, липла к нёбу, оседала на языке, ее невозможно было ни проглотить, ни сплюнуть, — и все-таки Анна бежала, летела, стремилась вперед: смело, не мешкая, как колокольный звон, как пламя свечи, как душа покойника к всевышнему! За околицей она потеряла одну туфлю, но не остановилась подобрать ее, словно все зависело от каждой секунды. (Туфлю эту она подобрала на том же месте, возвращаясь обратно, — одинокая, стоптанная, со скошенной набок пяткой, простая и тихая, как сама Анна, туфля так и валялась на белой от пыли дороге, дожидаясь хозяйки: да и кому и зачем она могла бы понадобиться?) Но вот наконец и виноградник! Еще издали она услыхала, как заступ Георги вонзился в землю, словно копье в тело дракона, как глухо упал вывернутый им ком земли. (А может, ей, знавшей, что Георга «вскапывает», это только показалось?) У Георги были горячие, пахнущие землей руки; подхватив мать, как ребенка, он вместе с ней кружился на месте, топча свежевскопанную землю. «Почему? Почему?» — без конца повторяла она, сама толком не понимая, о чем спрашивает: почему он ушел или почему вернулся? Большие руки сына и пугали и радовали ее, возвращали ее назад, в далекое прошлое, вновь делали ее ребенком, сидящим на качелях, летящим к звездам… Нет — она вновь была с тем, с первым и единственным, вечным, навек умершим! Все вокруг нее кружилось: и виноградник, и ореховые деревья, и застывший в их тени осел, и кувшин с заткнутым пучком травы горлышком… еще немного, и все это, вместе с Анной, оторвалось бы от земли, улетело бы в небо, как волшебная посуда Камари! «Пусти, сынок, — стыдно же…» — говорила она для виду; ибо в действительности ей вовсе не хотелось, чтоб он опустил ее на землю, чтоб и она, и все вокруг перестало кружиться. А потом они сидели под навесом, и она косынкой обмахивала раскрасневшееся от бега потное лицо…
— Я тебя как будто одну бросил… не с мужем и сыном, а с врагами! — говорил он.
Оказалось, что Георга увязался за шедшим в Тбилиси аробным караваном. Он твердо решил никогда не возвращаться. До этого он долго колебался, но потом окончательно понял, что так будет лучше для всех. Он не винил никого, кроме самого себя, — такой уж, видно, он дурной и никчемный, если ни отчим, ни брат его не любили! Он, ей-богу, старался, ей-богу, только об этом и думал — но у него ничего не вышло. Отчим считал его своим врагом; брат воображал, что он когда-нибудь потребует своей доли наследства, а мать оказалась меж двух огней, разрывалась надвое, но встать ни на ту, ни на другую сторону не могла; ибо разделить неразделимое, отказаться от неотъемлемого, осуществить неосуществимое ей было невозможно. А происходило это потому, что существовал Георга… неужто ж он этого не понимал? Понимал, конечно, но что ему было делать? Как мог он, не отравив ничьего хлеба горечью, в то же время и долг свой перед отчимом выполнить, и матери хорошим сыном быть, и брату свое братство доказать? Бежать было проще всего — на это он решился не сразу, не наобум. То, что он лишний, то, что он всех сковывает, стесняет, он понял еще в день свадьбы матери; но тогда он был еще маленьким и всего на свете боялся: и ночного одиночества, и воя шакала, и крика филина, и раскатов грома… На свадьбе матери он, правда, напился в стельку, но и это ведь только от страха, только из боязни потерять мать! Потом он долго мечтал бежать, но не в одиночку, а вместе с матерью — похитить жену у мужа, закутать ее в воображаемую бурку, посадить ее на воображаемого коня, увезти ее за тридевять земель, в какую-нибудь хорошую страну, к хорошим людям (если они хоть где-нибудь есть в действительности). Но потом у нее родился сын, и он понял, что похитить ее уже не сможет — теперь она была матерью не только ему, но и тому, другому; похищать же мать он не стал бы ни у кого. Ибо одно дело жена, другое — мать; найти замену жене человек может, а матери нет. Поэтому и отдать ее нельзя — ее не находят, не выбирают, не делят, и твоему брату она принадлежит не меньше, чем тебе самому; а если вас не двое, а десятеро, то и всем десятерым поровну! Сам-то он все-таки дело другое — он ведь и родился словно бы только на горе матери. Он был чужим, следом другой жизни, счастливой или несчастливой, но бывшей до Кайхосро и Петре; он был рубцом старой раны, лишь уродовавшим в глазах обоих чистое лицо их жены и матери, без конца напоминавшим им о том, что до их появления она жила другой — тайной, неприемлемой, оскорбительной для них жизнью. Существование Георги делало и Анну чужой в собственной семье, не чужой даже, а отчужденной, окутанной тайной и поэтому раздражающей и мужа, и сына. Да она и сама понимала это не хуже других — поэтому-то она и прокрадывалась на свидания с Георгой тайно, словно влюбленная девушка; поэтому-то она и таскала ему, словно прислуга-воровка, украденные в собственном доме сдобу и яблоки. Она сама чувствовала, что Георга — это одно, а Петре — совсем другое. Петре был плодом действительности; а Георга — плодом мечты, сказки, даже сна, навязывающего тебе свое выдуманное счастье, блаженство, рассчитанное не на людей, а на богов… навязывающего лишь с тем, чтобы потом, по пробуждении, тебя окатила холодной водой свирепая, беспощадная действительность, для которой сон этот смехотворен, нелеп, гроша медного не стоит и которая уж не отвяжется, пока не вернет одурманенного сном на землю, не вставит его, как лошадь, в шершавые, стертые его же боками оглобли однообразных и лишенных колес будней! Таковы были мысли, мучившие Георгу и на винограднике, и в хлеву. Они не убивали, но и не помогали — они просто били по голове невидимыми молотами, как бы подковывая ему мозги. Делиться этими мыслями ему было не с кем, кроме осла; но чем мог помочь Георге осел? Он лишь внимательно слушал и от этого глупел еще больше. Нет, уходить было необходимо, во что бы то ни стало, любой ценой! До самого своего ухода он был убежден, что так будет лучше, хотя в душе и чувствовал, что на самом-то деле его место именно тут, что отчим не зря держит его во дворе наподобие овчарки. Разумеется, он был нужен Кайхосро не только для работы на винограднике — но это знали лишь они двое; будь это не так, тот давно уж от него избавился бы, не дал бы ему «баламутить дом»! Да и сложно ли это было? Скажи лишь слово, и он тут же собрал бы все свои скудные пожитки. Он не стал бы упорствовать, требовать своей доли; он не задумываясь оставил бы им и единственный камень отцовского дома, опознанный им благодаря выцарапанному на нем человечку, — ведь вытащить и один этот камень означало бы ослабить стены, принадлежащие его брату, сыну его матери! Да лучше уж отчим прямо выгнал бы его из дому. Тогда он ушел бы открыто, не таясь, освободившись от всех обязательств, — не сбежал, а ушел бы. Тайный же его уход был, в сущности, изменой… И все-таки в конце концов он не выдержал, осмелился; и осмелиться его заставил петух — да, взъерошенный, яркоглазый, как солнце, огненного цвета петух на облучке арбы! Он кричал так, что безногий вскочил бы, в камне кровь закипела бы, — и Георга пошел за ним, подумав вдруг, что мир велик, что где-нибудь, с божьей помощью, устроится и он, а устроившись, сумеет позаботиться о своих и издалека. Он оставил заступ в земле, поправил рубашку и пошел за аробным караваном. А петух кричал беспрерывно; растрепанный, взъерошенный, с остекленевшим глазом, он, широко, растопырив лапы и вцепившись своими поблескивающими когтями в доску облучка, покачивался вместе с арбой, то ли разъяренный, го ли изумленный — а скорей всего, и разъяренный и изумленный — глухотой мира и отдаленностью и равнодушием того, для чьего слуха он усердствовал. «Испортились наши часы!..» — посмеивались аробщики; и Георга тоже с ребяческим весельем, радостью и гордостью поглядывал на петуха, который, со вздернутой шеей, с гребешком, закрывавшим его глаза, словно хлынувшая из головы кровь, покачивался на своих сухих желтых лапах, как бы вызывая весь мир на драку. Днем, пока они шли по дороге, все было еще ничего — бесконечный крик петуха их даже забавлял. Его тень волнами колыхалась по придорожным холмам и кустам и была так огромна, что в ней без труда укрылась бы целая отара овец вместе с пастухами и собаками. И это тоже нравилось аробщикам, над этим они тоже посмеивались. «В городе придется попросить первого же цирюльника оскопить этого господина — иначе он всех кур на свете передавит!» — говорили они. Но часы петуха на земле уже истекали, и попасть в город ему было не суждено. Ночью, когда аробщики распрягли волов и раскинули бивак, крик петуха стал невыносим. Забеспокоилась, встревожилась, замычала даже скотина, вытолкнутая этим криком из привычного хода суток; да и люди, потеряв вдруг свое веками выработанное ощущение времени, растерянно и угрюмо глядели на звезды, словно этот мучительный, душераздирающий крик исходил оттуда, из другого мира, с божьих небес. Из-за своей необычности и людской склонности к суеверию крик петуха приобретал магическую силу и значение: петух явно помешался, и это было так странно, что у людей не могло не возникнуть дурных предчувствий. Безумный петух на что-то указывал, был предвестником чего-то — не ночи и рассвета, возвещать о наступлении которых господь ему только и поручил, а чего-то другого, огромного, более существенного! Может быть, начиналось второе пришествие? Страшный суд? А? «Чтоб тебя черти побрали!» — разводили руками аробщики, беспокойно бродя в этой орущей темноте. А петух, покачиваясь на дрожащих от напряжения лапах, кричал — рвал себе глотку, надрывал сердце, выворачивал грудь в крике; и все окружающее сжималось и ерошилось, как попавший в опасность еж. Так они провели ночь. Но петух не умолк и утром — он, разграничитель, неутомимый и справедливый посредник, примиритель дня и ночи, вообще уж не отличал их друг от друга! Он кричал по-прежнему, с прежним упорством, хотя ночной холод и ветер еще сильней растрепали и изуродовали его, гордого и жалкого, как непризнанный пророк, который своими бесконечными проповедями лишь снискал у людей репутацию болтуна, который зря корпел над книгами, зря упражнялся в ораторском искусстве, зря мечтал о набитых народом храмах и площадях; ибо все, что он понял, все, на что бог раскрыл глаза ему одному, никому, кроме него, не понятно и не интересно… В конце концов вышедшие из терпения аробщики сорвали петуха с облучка и, прижав его длинную, сильную, как стальная пружина, шею к деревянному чурбаку, одним ударом топора откинули от туловища желтоглазую, с алым гребешком и уродливо разинутым клювом голову. Туловище петуха запрыгало, стукаясь оземь, словно пестрый мяч, — оно умирало танцуя, как бы радуясь смерти и избавлению от тяжкой, неблагодарной обязанности, возложенной на него богом. Вдруг стало тихо, как в подземном склепе. Безголовое, с широко растопыренными лапами тело петуха валялось в луже крови; и перья его тоже умерли, сразу потеряли свой блеск и мягкость. Голова же петуха по-прежнему таращила глаза, словно ему не терпелось поглядеть, как живут люди, что у них творится без него. Все были так подавлены, словно невзначай убили человека. Георга прошел с караваном еще один день пути, но вернуться назад он решил в тот же миг, когда земля покрылась алыми, похожими на листья клена пятнами петушьей крови. Он шел за притихшим караваном, как люди идут за чужим покойником: чтобы отдать обязательный долг приличия; когда же за голыми холмами показался Тбилиси, он молча поклонился всем и пошел обратно. Ему не терпелось остаться одному на дороге, по которой он шел с безумным петухом.