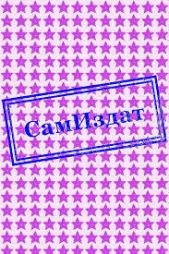И всякий, кто встретится со мной...
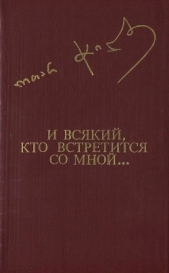
И всякий, кто встретится со мной... читать книгу онлайн
Отар Чиладзе - известный грузинский писатель, поэт и прозаик. Творчеству его присуще пристальное внимание к психологии человека, к внутреннему его миру, к истории своего народа, особенно в переломные, драматические периоды ее развития. В настоящую книгу вошел социально-нравственный роман из прошлого Грузии "И всякий, кто встретится со мной…" (1976), удостоенный Государственной премии Груз.ССР им.Руставели.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кайхосро было почти не в чем упрекать судьбу: в сущности-то, его жизнь могла сложиться и куда хуже. Но одно необычное происшествие, случившееся в то время в У руки, вновь напомнило ему о том, что у него есть враг и похуже болезни — враг, появления которого можно ждать в любую минуту. Урукийцы стали свидетелями действительно очень странной мести: кто-то (возможно, конечно, что их было и несколько) за ухо пригвоздил Гарегина к двери его лавки. Всю ночь Гарегин провел, стоя на цыпочках, как бы танцуя лезгинку, — в момент пригвождения он, ожидая боли, невольно приподнялся, в этом положении гвоздь и пронзил его ухо. Когда к лавке сбежался народ, кровотечение уже прекратилось, на стекшую по двери кровь слетелись мухи, а жена и дети Гарегина, ошеломленные несчастьем мужа и отца, сидели на полу на корточках и, тихо, беспомощно скуля, глядели на него, от страха и боли, казалось, совсем оцепеневшего, но переносившего нечеловеческие муки со стойкой безропотностью, подобно слабому телом, но непреклонному святому. Сознание он потерял лишь после того, как кузнец Стефане вытащил гвоздь с присохшей кровью — тогда колени Гарегина подогнулись, и он рухнул бы на землю, не подхвати его кузнец на руки вовремя. Лишь тут, вскочив с полу, с воплями подбежали и домочадцы Гарегина, как будто до этого ничего страшного с ним случиться еще не могло или же словно он был действительно святым и его мощами следовало овладеть прежде, чем это придет в голову другим. Было очевидно, что злодеяние совершено каким-то совсем уж отпетым головорезом, — этим лишь и могло объясняться то, что домашние Гарегина всю ночь и пикнуть не посмели и не только звать на помощь, но даже подложить ему под пятки кирпич, чтоб хоть отчасти облегчить его муки, и то побоялись! Назвать этого злодея и женщина, и дети, и сам Гарегин отказались наотрез. Со скулами, растертыми уксусом и водкой, посинев, как Христос в гробу, испуганно озираясь вокруг, Гарегин лишь бессильно мотал головой, и на его белых губах дрожала слабая, бессмысленная, беспричинная улыбка. Видя, что любопытные и сочувствующие не отстают, он даже пробормотал, что пригвоздил себя сам, во исполнение давнего обета. Но этому, конечно, никто не поверил — налицо была явная месть; ни причины ее, ни личности мстителя установить, однако, не удалось.
— Хозяина в стране нет… — заметил кто-то.
Кайхосро надулся, словно ему намекнули, что ни от чего не застрахован и он, что в один прекрасный день какую-нибудь подобную шутку могут сыграть и с ним.
Да, опасность угрожала непрерывно, на каждом шагу, от нее не был застрахован никто; беззащитны были все одинаково. Для смерти не существовало ни железных ворот, ни каменных стен, для нее и Гарегин, и майор были равны — различать она не умела. Но смерть смерти рознь! Недавно еще, правда, он сам доказывал отцу Зосиме, что любая смерть одинакова; но теперь уж это его не устраивало! Теперь смерть была для него двуликой: от бога и от человека. Одна действительно и неизбежна, и крайне неразборчива— ей все, и он в том числе, обязаны подчиняться беспрекословно; но вот другая смерть, смерть от человека, смерть, которой он боялся больше всего, не должна была, если на свете есть хоть какая-то справедливость, быть настолько слепой, чтоб не отличить майора от лавочника… И все-таки он знал, что блеск его эполет никого от убийства не удержит; знал он и то, что бог, запретив человеку убивать себе подобных, этим лишь еще больше разжег в нем страсть к убийству — и человек убивает без конца! Сколько раз ужасали Кайхосро жестокость и неистовство человека… каких только убийств не насмотрелся он с того дня, когда у него на глазах вырезали всю его семью! Каким только оружием не убивали друг друга люди из ненависти, любви, трусости или невежества! Ведь, в сущности, десять заповедей — это не что иное, как перечисление десяти главных потребностей человека; а человечность — лишь робкая попытка не подавить, нет, но хоть немного приглушить эти десять потребностей, одна другой сильней и неодолимей! Человек всегда убивал своего брата или давал ему убить себя, ибо больше всего его раздражало существование именно брата, именно человека, во всем подобного ему самому, одной плоти и крови с ним самим. Именно ремесло брата всегда казалось ему прибыльней и легче собственного, именно женщина, которой коснулся брат, была для него привлекательнее всех прочих; и он был уверен, что, убив брата, заживет припеваючи — займется ремеслом, недоступным ему при жизни брата, возьмет в жены женщину, познать которую уже успел брат. Проклятие это исходило от самого бога и избавиться от него можно было лишь одним способом: на все закрыть глаза, от всего отказаться… но и это невозможно, ибо тогда человек пришел бы просто к отказу от существования, заменил бы братоубийство самоубийством, вот и все! Самоубийство же — потребность отнюдь не общечеловеческая и не зря считается делом недостойным, бессовестным и преступным; ибо самоубийца не только разрушает веру сорока тысяч братьев в свою одинаковость с ним, но и попросту лишает их возможности самим убить его. Таким образом, получалось, что бог с самого начала обрек человека на гибель. Он дал человеку жизнь, но и поручил ему самому охранять ее; поручил, хоть и знал, как трудно ухаживать за жизнью, оберегать жизнь — особенно же человеку, созданному из нежной, болезненной ткани, которую легко побеждают и вода, и земля, и огонь, и воздух! Правда, у Кайхосро был такой дом, что и урукийцы и случайные прохожие шеи себе выворачивали, глядя на него, глаз с него не сводили, пока дом этот не скрывался из виду. Но даже такой дом не мог спасти своего хозяина от смерти — смерть потому ведь и смерть, что остановить ее нечем, что она непременно придет и разыщет тебя, хоть бы ты не имя, а собственную шкуру подменил! Впадая от этих мыслей в отчаяние, Кайхосро ненавидел уж и свой двухэтажный особняк с каменной оградой и железными воротами, и свое имя, спрятавшись за которым с целью перехитрить смерть он в действительности просто сам себя одурачил. Как мог спасти его чужой род, сам уже умерший, сгинувший, выродившийся и существовавший-то теперь лишь благодаря ему — лжепотомку, лженаследнику, лжецу? И поделом ведь, если кровь этого рода была такой буйной и строптивой, что даже его двухмесячных младенцев маковым отваром успокаивать приходилось… «Господи, помилуй… господи, помилуй!» — бормотал Кайхосро ночью, в бессоннице. Но он тут же раздражался, вспомнив, что сам не знает, кто он такой и, стало быть, о чьей милости просит!
Но миру было наплевать на его переживания. Беспрепятственно шло вперед высчитанное стрелками огромных, как шкаф, часов и их же боем утвержденное время. Никто не знал, что его ждет впереди, и поэтому все слепо — нет, не слепо даже, но с какой-то странной, малопонятной готовностью и волнением — шли за временем навстречу чему-то неясному, загадочному, возможно, даже несуществующему… шли, как дети идут за взрослыми в церковь или на сельскую площадь, где должны давать представление заезжие городские актеры. Земля же, вечная и таинственная, как рождение и смерть, по-прежнему принимала любое семя, без конца меняла свои пестрые платья и платки — вероятно, для приманки оплодотворяющего; а потом она отдыхала, по горло закутавшись в холодную, чистую постель снега, чтоб, отдохнув, вновь взяться за свое вечное дело — зачинать, вынашивать и убивать.
5
Она и сама не знает, почему это делает, почему так старается, чтоб никто не заметил, не увидел, не услыхал, как она украдкой выскальзывает из спящего дома, из тьмы, напряженной от непрестанного движения огромных, как шкаф, часов, и сама столь напряженная, возбужденная, одержимая, неспособная соображать, словно она попала в непоправимую беду, словно ее жизнь и смерть зависят от этого единственного шага, не сделать которого она, однако, уже не может, а все остальное забыла — и семью, и деревню, и церковь… ибо так, только так может она не искупить грех, нет, но хоть на день-два приглушить собственную совесть, которая потом, через день-два, вновь выгонит ее из дому в тот же тернистый, коварно притаившийся, бесконечный, от испуга и волнения вновь неузнаваемый путь. Таков же, должно быть, и путь, ведущий в преисподнюю — но тот все проходят однажды и навсегда; она же и сама не знает, сколько еще раз ей предстоит пройти свой, этот — засыпанный желтым пеплом луны, протянувшийся под свисающими с веток тенями, ходящий ходуном и пустой, столь же болезненно, невыносимо пустой, как ее мозг, в котором, как осмелевшая от голода мышь в темной кухне, мечется, копошится одно-единственное робкое, нерешительное слово: сын, сын, сын! А вот и он — приподнявшийся на постели, бледный, как арестант, изумленный, осчастливленный ее вниманием, ее лаской, ее неожиданным приходом. На его лбу, под глазами, в уголках рта — печать темноты, одиночества, не додуманной до конца, ни с кем не разделенной мысли и мечты; он застенчив, неловок, скуп на слова — и беспредельно, невообразимо благодарен. Ради одной такой секунды стоит жить… и вот она уж тоже счастлива, уже не волнуется, словно оказавшись в безопасности, уйдя от преследователей, попав наконец туда, где ей следовало быть все время. Они похожи скорей на несчастных влюбленных, чем на мать с сыном. Он невольно поджимает ноги под одеялом, чтоб освободить ей место на тахте, — и она садится. Бессмысленно улыбаясь, беспричинно стыдясь, они долго молча глядят друг на друга. Одна ее рука по-прежнему под фартуком (минуту спустя она сама спохватится, сама посмеется над собственной рассеянностью; «Как же я забыла!» — скажет она, приподымаясь, чтоб сунуть под подушку сына украденное в доме яблоко, чурчхелу или кусок сдобы). Другой же рукой она незаметно водит по его постели, втихомолку проверяя мягкость матраца, толщину одеяла, свежесть простынь. Одновременно она внимательно разглядывает жилище сына — так, словно она тут впервые, словно ей тут нравится, словно она довольна, что он так хорошо устроился; а ведь чего она себе только не представляла, не воображала, не боялась, идя сюда! («Господи, господи, да святится имя твое — пошли победы моему бедному Георгию…») В углу хлева горбится осел — или, точней, мрак, созданный и согретый телом осла; он слегка шевелится, словно чуть-чуть встревожен ее приходом. Кажется, ей нравится и это, — во всяком случае, она долго с ласковым любопытством и сочувствием глядит в затемненный угол. Но время идет, идет все быстрей; теперь дорога каждая секунда, каждая секунда может стать роковой! Теперь они заметно взволнованы, даже испуганы, хотя ни она, ни он не смогли бы объяснить, что именно их тревожит, в чем состоит их вина. «Ну, иди уж…» — просит сын таким горячим шепотом, словно умоляет любимую женщину не покидать его. Возможно, они и чувствуют, что эта секундная, украденная близость лишь еще больше отдаляет их друг от друга; но, согласившись на такую жизнь однажды, они не могут сейчас уж ничего изменить; сейчас они благодарны и за это и боятся лишь чего-то еще худшего, хотя страх этот друг от друга тщательно скрывают. Находясь вместе, они не могут думать о худшем, поэтому-то он и рассказывает о своих делах на винограднике, а она о домашних. «Иди, иди, ложись спать… мало ли у тебя еще забот?» — просит, умоляет, уговаривает он. «С каждым днем все хуже! Рычит, как его отец… как он жить-то будет?» — шепчет она. Внезапно оба застывают с вытянутыми шеями — безжизненные, как каменные статуи, скованные сознанием собственной неподвижности и бессилия. В темном двухэтажном особняке бьют огромные, как шкаф, часы; их напряженные, повелительные, угнетающие звуки слышны и здесь, в хлеву. Еще больше съеживается в своем углу осел — он тоже боится этих звуков, всегда так внезапно врывающихся в тишину деревенской ночи. Огромные, как шкаф, часы зовут обратно в дом ускользнувшую из него хозяйку! Теперь уж и в самом деле медлить нельзя. Бой часов восстановил против нее все окружающее: воздух как бы зарос колючками, свет луны стал горьким, как желчь; повешенные на ветках тени уже не колышутся, а дергаются, словно от боя часов они воскресли и вновь задыхаются; земля дыбится, ерошится, ноги на каждом шагу попадают в скрытые во тьме колдобины. И лестница стала длинней, круче — по ней приходится чуть ли не карабкаться! Но вот, слава богу, она уже дома. Кайхосро храпит, с Петре сползло одеяло. Сейчас она подойдет, укроет его… Нет — сперва она разденется, примет домашний вид, уничтожит все следы тайного свидания, а потом уж укроет Петре.