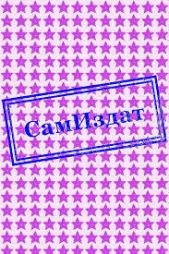И всякий, кто встретится со мной...
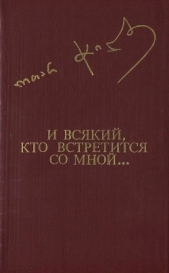
И всякий, кто встретится со мной... читать книгу онлайн
Отар Чиладзе - известный грузинский писатель, поэт и прозаик. Творчеству его присуще пристальное внимание к психологии человека, к внутреннему его миру, к истории своего народа, особенно в переломные, драматические периоды ее развития. В настоящую книгу вошел социально-нравственный роман из прошлого Грузии "И всякий, кто встретится со мной…" (1976), удостоенный Государственной премии Груз.ССР им.Руставели.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Где ты была? — спросил ее Петре.
— А почему ты не спишь? — уклонилась от вопроса она.
— Думаешь, я не знаю? — покачал головой Петре.
Рука Анны невольно прикрыла ему рот.
— Тише, тише… Не разбуди отца! — шепотом взмолилась она, бессмысленно оглядываясь по сторонам, как бы не узнавая этого места, как бы лишь в эту секунду проснувшись, не успев еще прийти в себя.
— Его ты любишь больше… его! — с силой оттолкнул руку матери от своих губ Петре.
— Не смей! — прикрикнула на него Анна и тут же, вновь перейдя на шепот, добавила: — Молчи… Ты же хороший мальчик! Спи. Прошу тебя…
В следующий миг она, сама себе изумляясь, уже била его — безжалостно, наотмашь, обеими руками! Все ее тело рвалось, кости гудели, но она продолжала бить, словно выколачивала ковер и торопилась, вопреки боли и усталости, поскорей закончить эту нудную работу, вернуться к которой она, если б разрешила себе хоть минутку передохнуть, уже не смогла бы. «Ублюдок он… ублюдок, ублюдок!» — орал при каждом ударе прикрывавшийся подушкой, весь скрючившийся, изменившийся в лице Петре; а она продолжала бить, едва уже владея своими точно налившимися свинцом руками. Она глухо стонала, задыхалась, но остановиться не могла — собственная боль обжигала, подхлестывала ее, но ей, как она ни старалась, не удавалось освободиться от этой боли, передать ее телу сына, заставить и сына почувствовать боль, почувствовать, что терпит и выносит мать! Когда она наконец опомнилась, Петре, в разодранной рубашонке, испуганно и изумленно жался к стене в самом дальнем углу тахты, а в дверях с лампой в руке стоял похожий на привидение Кайхосро. Опустившись на колени и уткнув лицо в разворошенную постель, Анна громко заплакала, зарыдала, завыла — побежденная, поверженная, обреченная…
Этой ночи ни Кайхосро, ни Петре никогда потом ей не напоминали, но сама она этого мгновенного сумасшествия ни забыть, ни простить себе не могла. Она стыдилась и мужа и сына, и стыд этот рождал чувство вины, делавшее ее и без того покорную и застенчивую душу еще покорней и застенчивей. Она страдала не оттого, что неожиданно для себя побила сына — в ту ночь Петре ничем ведь не провинился, — ее потрясли собственная жестокость, несдержанность, безрассудство, обычно столь ей чуждые, несвойственные и именно поэтому не только предосудительные, но и смехотворные… смехотворные и жалкие, как поведение ребенка, который, оставшись на кухне без присмотра и вдоволь налакавшись сладкого вина, не может понять, что с ним произошло, почему потолок кружится, почему его тошнит, почему взрослые со странно увеличенными лицами так грубо его толкают; почему у него на голове мокрая тряпка, от ощущения которой его мутит еще больше; почему тахта встает дыбом, словно заупрямившийся осел, норовящий сбросить его в какую-то невообразимую черную бездну! Отрезвление всегда тяжело, ужасно, унизительно — тем более после опьянения первого и случайного. Анне было стыдно глядеть в глаза мужу и сыну, и они это чувствовали. Кайхосро даже не спросил ее, чем провинился ребенок, чего она от него среди ночи хотела. Петре тоже на свои незаслуженные синяки не жаловался, но на другой же день залил хлев Георги таким количеством воды, что совсем затопил его, и вернувшемуся с виноградника Георге пришлось уйти обратно и переночевать там, под открытым небом, на соломе и обрывках старого войлока. Так что пострадал опять Георга — и опять из-за Анны. Можно ли придумать худшее наказание для матери? Бог дал ей лишь способность любить, но жизнь заставляла ее непрестанно сеять ненависть. Всюду, где она проходила, вырастала ядовитая трава, и ее зловещий отблеск светился прежде всего в глазах ее второго мужа и второго сына! Да — но почему? Если она была такой плохой, почему все они к ней врывались? Почему им было не оставить ее в покое, одну, с ее сиротой и покойным мужем? Она ни у кого ничего не просила, никому ни на что не жаловалась — ни на что, ни на что, ни на что! Даже своего мертвого мужа она никогда не упрекала в том, что он оставил ее одну, бездумно бросил молодую жену ради каких-то там исконных земель! Да какое дело до этих земель было ему, который и своего-то крохотного двора защитить не сумел бы — столько у него оказалось притаившихся за спиной врагов… «Ты знаешь: нам, кажется, повезло!» — шептал он ей ночью накануне отъезда; и он был так возбужден, так обрадован, что у Анны не повернулся бы язык хоть немного остудить этот восторг, эту радость! Но ее сердце обливалось кровью — она была женщиной и нутром чувствовала, что ничего хорошего из этой затеи не получится. «Дурачок, — хотелось ей сказать мужу, — я земля твоей земли и родина твоей родины!» Но этого она не сказала и сказать не могла, это он обязан был понимать сам, без объяснений. Он обязан был понимать, что родина начинается с семьи, что если у человека отнимут семью, если его жену опорочат, а сына объявят ублюдком, то родина станет для него просто сушей, пастбищем и пашней, не имеющими ни начала, ни конца, ибо любая земля под небом одинакова, и вода тоже; а человек с разрушенной семьей, с опороченной женой и потерянным сыном — уже не оседлый житель земли, а скиталец, которому совершенно безразлично, где, под каким небом, у чьих дверей ему подадут кусок хлеба или кружку воды. Анна понимала это по самой своей природе, по своей врожденной женской мудрости, но именно эта мудрая природа и обязывала тогда молчать, не мешать уходящему на смерть мужу испытать истинную свободу на истинно принадлежащей ему земле. «Почему ты опять плачешь?» — ласково шептал он, целуя мочки ее ушей. «Потому что люблю!» — отвечала она разгоряченными от поцелуев и собственных слез губами. «Потому что мы гибнем!» — хотелось ответить ей в тот миг; но и сказанное ею означало, в сущности, то же самое! Женщина ведь принадлежит не мечте, а действительности. Она, конечно, тоже понимает, что лучше, что хуже, — и все-таки всегда предпочтет своих кур растянувшейся в небе цепочке журавлей. Для нее важней всего то, что можно увидеть и потрогать, что требует присмотра и заботы; созидая новое, она, в отличие от мужчины, не разрушает старого, а выводит новое из старого, не начинает заново, а продолжает — она прочней связана с землей, больше полагается на землю, больше верит земле. Оторванная от земли, женщина бессильна, ибо она — не что иное, как живое олицетворение земли и всего земного и, даже выслушивая признание в любви, глядит в землю, как бы надеясь прочесть на изрытом лице земли, что ей следует отвечать, не смея следовать велениям сердца без согласия земли. И любя, и рожая, женщина ложится на землю, и всюду, где б она ни легла, она дома — или, точней, то место, где она легла, и есть подлинный вечный дом и для того, кто в слепом блаженстве страсти порождает новую жизнь, и для того, кто в результате этого блаженства столь же слепо родится. Лежащая женщина — божество, она творит, ибо любит, и любит, ибо творит. Но откуда было знать Анне, что она родит врага сыну своей первой и единственной любви, что рождение это будет ему во зло? Да она собственными руками выжгла бы себе утробу каленым железом, в колыбели задушила б этого новорожденного подушкой, а потом и сама повесилась бы на первом же суку! Но разве знает земля, какое семя вызревает в ее утробе? Разве отличает она виноград от волчьих ягод? Не с одинаковой ли бережностью и силой питает и то, и другое всемогущее, всепрощающее сердце земли? Такова же была и Анна, но то, что для земли естественно, для нее было мучением, и пожаловаться на это мучение ей было некому. Мужу она была нужна, только чтоб греть ему кирпич и быть козлом отпущения для его злобы; у Георги же, едва он ее видел, так загорались глаза, что у нее язык отнимался! Безграничная любовь и преданность сына лишь еще больше угнетали ее, вынуждали ее продолжать эту ненавистную жизнь, не отнимать у Георги его единственного счастья — счастья существования матери. Впрочем, она и сама была почти счастлива, видя себя в глазах сына навеки юной, непорочной, его сверстницей, его одетой в рваное платьице мечтой, надеждой, покоем, радостью! Из глаз Георги на нее глядела другая Анна, как бы вторично рожденная в душе сына, навек узаконенная, неизменная, как икона божья… как же могла она, изменчивая, преходящая, смертная, родив создателя этой второй — неизменной, вечной, бессмертной Анны, самовольно уничтожить себя, отнять у него глину, из которой он лепил ее лучшего двойника? А Петре не хватало духу простить матери другого сына — старшего и все-таки более бесправного, чем он; ибо тот был пасынком, а не сыном! Возможно, конечно, что он просто завидовал Георге, страдал из-за его первородства, не мог простить первого материнского поцелуя, доставшегося не ему, а Георге, первого глотка молока, высосанного из материнской груди не им, а Георгой; возможно, что эта естественная, можно сказать, зависть никогда не перешла бы в ненависть, будь Георга сыном того же отца, что и Петре. Но ведь он-то был именно чужим, посторонним, половина его сердца находилась где-то в другом месте, вне стен дома, с его покойным отцом, если только у него вообще был отец — не зачавший мужчина, а именно отец! Вот у Петре отец был, и для него Петре был первым сыном — для отца первым, а для матери вторым и последним. Ибо она, оказывается, еще до встречи с отцом успела чего-то там нагрешить — или, как еще выражался отец, «малость смошенничала», «не сдержалась». Но почему из-за каких-то старых грехов матери Петре должен уступать кому бы то ни было первенство в собственном доме? Тот мог быть первым там, откуда он сюда пожаловал, — ради бога; а тут дом Петре, и настоящий Макабели — только он, а тот лишь притворяется! Неужто ж Петре должен считать его братом потому только, что мать Петре родила и его? А если бы она, прости, господи, щенка родила, то они с Петре тоже были бы братьями? Она-то конечно уж считала бы и щенка братом Петре, если б они вышли из одного чрева и сосали одну грудь! Да, все так: и Петре, и Георга вышли из одного чрева, сосали одну грудь; и все-таки Георга — не настоящий Макабели! У него был другой отец с другой кровью, с другим именем, с другими мозгами…