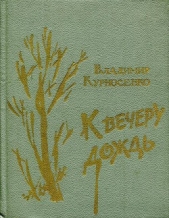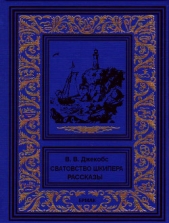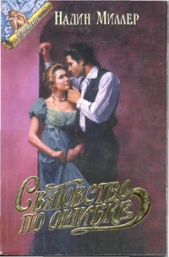Сватовство

Сватовство читать книгу онлайн
«Любви все возрасты покорны. — писал в свое время поэт. Его слова можно поставить эпиграфом к книге рассказов Леонида Фролова, повествующей о жизни молодежи сегодняшней нечерноземной деревни. Это книга и о любви и о долге. О долге перед Родиной, о долге перед отцами и дедами, передавшими своим детям в наследство величайшее достояние — землю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А не ребят и оставил…
Бабы сочувствующе вздыхали, говорили про Анну, что она в кладовщиках, так богатая. А Федосья-то знала, что не в богатстве дело. Это она, Федосья, покусилась на чужой пирог. Не послушала ни маму, ни тятю: сам, мол, идет, я не зову… А, конечно, все права-то на Костю у Анны. Где бы тогда быть справедливости. Это в чем же Анна провинилась перед судьбой, если не ей, а Федосье, уже изведавшей бабьего счастья, выпало б прожить с Костей жизнь.
Не могла Федосья Анну судить. И Костю ни за что не корила. Она ведь с первых дней своего замужества чувствовала, что была для Кости больше матерью, чем женой. А ему-то, конечно, не забота Федосьина нужна была, он уж, видно, устал от ее опеки. Четыре года терпел, на пятый терпежу не хватило.
А раменские бабы как подрядились, только охают:
— Ой, Федосья, он ведь к тебе от голода спасаться приходил. А кругом лучше зажили — и убежал.
— Ну-ка, откормила, поправила, а он и спасиба тебе не оставил.
Другие безжалостно сплевывали:
— Это разве мужик? Спасенья у бабы искал. И не жалей, Федосья, его. Скатертью дорога!
Федосья от вздыхальщиков, будто от назойливых мух, отмахивалась:
— Да ладно вам, бабы. С кем чего не бывает…
Не видела она за Костей вины, не чуяла за ним и корысти. Не на голодные годы он к ней приходил, на всю жизнь пристраивался, да судьба, как карта, видать, изменчива, ненадежна…
Одного Федосья не могла понять в Косте. Почему он ей ничего не сказал, почему он молчком ушел? Ведь Федосья — не камень, разобралась бы, что у него на душе. Жили, не ругивались, а убежал как от сварливой бабы-яги. Ведь Федосья у него на рукаве не повисла бы. Сердцу-то, давно сказано, не прикажешь… Потянуло к Анне — и Федосья у него на дороге не встала бы.
Конечно, Анна девка хорошая. И не война, так не засиделась бы до таких годов. А то, что бабы перемывают ей косточки — в кладовщиках, мол, она, богатством переманила Костю, — так это все ерунда.
Да, Анна была в кладовщиках, но — надо же так случиться! — именно в те дни, когда Костя перебирался к ней, из кладовщиков-то ее и выперли, видно, что-то заметили. Если бы из-за богатства к ней Костя льнул, так разве бы не убежал от позора? Нет, он Анюшкины платьица в узел связал — все богатство! — посадил ее на телегу и увез в район.
Федосье потом рассказывали, что намыкался он по чужим квартирам, натерпелся лиха, но ведь Анну-то Веселову не бросил. Нет, не богатством она его притянула — молодостью. И Федосье было жалко их: еще бы, столько им пришлось испытать нужды.
Вечерами она сидела у окошка и, сама не зная зачем, дожидалась, когда проедет молоковоз. Пересчитает фляги у него на телеге, полежит на кровати и снова сядет к окну. Радио погромче ввернет, а там как в дупло кто-то забрался — и нудит и нудит…
Мамка-покоенка посоветовала:
— Федосья, попей травы-забытешки.
Забытешка-трава от тоски. Ею коров поят, когда телят отнимают.
Позаваривала с чаем аленьких крестиков-лепесточков — пить с цветами запашисто, духмяно, а сердце все равно не на месте.
Встанет ни свет ни заря. Еще в потемках переделает всю работу по дому. Незнамо зачем выйдет в луга. Над рекой курится туман. Кулик-перевозчик снует с берега на берег. Завидит ее, снимется с места, отряхивая с крыльев брызги, и взмоет к зардевшимся облакам. Кажется, так бы и улетела с ним.
А сзади ощущение такое, будто кто-то за тобой наблюдает. Федосья обернется — пустые луга.
В Косте все же заговорила совесть, направил к Федосье посланника — сестру свою.
Настя заявилась поздним вечером, незажженный фонарь поставила у дверей.
Федосья невесело усмехнулась:
— Чего-то вы, Митрохины, керосин экономите?
Настя молча села на лавку в кути. Расстегнула у пальто пуговицы, спустила на плечи шерстяной полушалок.
— Проходи на избу-то! Чего, как нищая, пристроилась?
Настя не сдвинулась с места.
— Федосья, ты не сердись на Костю-то, — вздохнула она, будто и не слышала приглашения. Голос ее показался Федосье виноватым, заискивающим. — Я вот из Березовки иду, от него, — сказала Настя. — Переживает он, что не по-человечески ушел от тебя.
— А теперь чего переживать? Назад не воротишь…
— Это-то так, — опять вздохнула Настя. — А уж я-то его ругала… Ой, как ругала… Говорю: «Не стыдно глазам-то?» Стыдно, говорит, потому и ушел воровски, не осмелился ничего сказать.
— Не осмелился… — вздохнула и Федосья. — Думал, собачиться буду… Ну да ладно, чего теперь-то толковать…
Она прошла на кухню и спросила из-за занавески:
— Самовар-то ставить?
А уж какой самовар: и говорить вроде не о чем. Настя, похоже, уже раскаивалась, что заскочила к ней. Ну-ка, принесла великую новость: Костя переживает, что не по-человечески с Федосьей простился. Федосье и без нее было ясно: должен переживать — он ведь не бревно бесчувственное. Уж она ли, Федосья, Костю не знает… Конечно, извелся весь, места, поди, не находит. У самого смелости объясниться не хватило, так и сестру в свое расстройство втравил.
— Ты чего не отвечаешь? Ставить ли самовар?
— Какое теперь чаепитие? — спохватилась Настя. — Мне ведь торопиться надо: домой-то неблизко бежать.
— Ну, как хочешь…
Настя начала собираться. И полушалок завязала на шее, и пуговицы у пальто застегнула, а медлила, не уходила.
— Порвалось наше родство, — удрученно покачала она головой. — А я раньше — Костя еще на войне был и знать ничего не знал, — когда к тебе ни зайду, всегда в голове промелькнет: вот бы брата своего к ней пристроить… Всегда-то во спокое будет, ухоженный, неруганый…
— И Анна не много наругает.
— Не знаю, Федосья, не знаю…
Настя взяла фонарь и двинулась к дверям.
— Опять зажигать не будешь, — подколола ее Федосья.
Настя обернулась от порога:
— Ой, девка, зачем тебе лишние-то пересуды? Я уж на дорогу выйду, тогда зажгу. А то ведь по деревне-то как займется: Настя Сенькина, скажут, у Федосьи была… Неспроста, мол, к ней приходила.
Так и верно: разве спроста? Братца своего выгораживала…
Нет, и Настин приход не снял с Федосьи тоски. И у окошка опять посидит, и фляги у молоковоза пересчитает. Теперь уж молоковоз не на телеге ездил, а на санях. От снега и в избе посветлело. Но на душе-то у Федосьи прежняя сутемень.
— Федосья, ты чего как потерянная? — спрашивали бабы.
Да не потерянная она — потерявшая. Привыкла, что жила в доме не одна. А теперь вот Ваня Баламут и то не заскочит, не оскалит вставные зубы:
— Все хожу да нюхаю…
Сам-то он вынюхал себе Зинку и, видно, взялся за ум. Вот уж действительно, женился — переродился… И зубами хвастаться сразу перестал, весь в заботах по дому.
Ой, права Федосья, права — любого замухрышку баба сделает человеком. Но беда в том, что не всякая баба сама-то человек. Через две на третью — ведьмы.
За Зинку Федосья тоже побаивалась — больно себя выставлять любит. А Зинка быстренько обломала Ване рога. Одного ребенка родила, второго — Ваня и обмяк совсем. Мужик хоть куда стал. Ну, так ведь и верно — в парнях перебесился, пора и самостоятельным быть.
Вот ведь как устроена жизнь: с Костей четыре года всего прожила, а воспоминаний про эти годы ворошить не переворошить, кажинный денечек перед глазами стоит как престольный праздник; без Кости же откуковала, считай, уж шестнадцать лет — и будто ночь темную проспала: если не приснилось ничего, так и рассказать не о чем.
Одно утешенье — Зинкины детки. Накатит на Федосью тоска, без них не вылечиться.
У Зинки младшую дочку звали Рая. Бывало, сядет Рая за стол рисовать и язык на щеку вывалит, до того увлечется.
Федосья заглянула к ней как-то из-за спины. Батюшки, каких теремов, каких зверей у Райки только и не нарисовано! А краски-то все на свете исперепутаны.
Федосья не удержалась, спросила:
— Рая, а почему ты коня-то зеленым рисуешь?