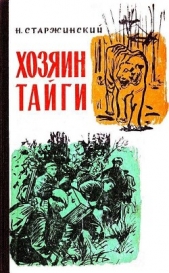Это случилось в тайге (сборник повестей)

Это случилось в тайге (сборник повестей) читать книгу онлайн
Анатолий Клещенко — ленинградский прозаик и поэт. Первые стихи его были опубликованы в 1937 году, затем он долгие годы работал на Северном Урале и в Приангарье на лесозаготовках, на рудниках, занимался промысловой охотой. Вернувшись в Ленинград, Клещенко становится профессиональным писателем, он автор нескольких стихотворных сборников и ряда прозаических книг. В декабре 1974 года А. Клещенко трагически погиб на Камчатке, где он последние шесть лет работал охотинспектором, собирал материал для своих новых книг.
В эту книгу вошли повести «Распутица кончается в апреле», «Дело прекратить нельзя», «Когда расходится туман» и «Это случилось в тайге». Действие всех повестей происходит в Сибири, герои Клещенко — таёжники, охотники, исследователи. Повести остросюжетны. В обстоятельствах драматических и необычайных самыми неожиданными гранями раскрываются человеческие характеры. Природа в повестях Клещенко поэтична и сурова, — писатель отлично читает ту сложную книгу жизни, в которой действуют его герои. Проза Клещенко — мужественная, добрая и человечная.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Приехал он к концу дня, в лесосеку не пошел. Настя накормила гостя щами с капустой-хряпой, а к чаю подала янтарного морошкового варенья. Кончив чаепитие, Антон Александрович переписал на разграфленной синим карандашом бумажке все привезенное им, бумажку протянул Насте.
— Распишись. Тебе на подотчет, как инвентарь общежития.
Настя расписалась. Латышев бережно достал из футляра баян и, прижав пальцем беленькую пуговку, потянул мехи. От высокого, режущего слух звука обычно медлительный кот Пушок пулей ринулся под кровать. Тогда Латышев нажал пуговку слева, на басовой клавиатуре, и на этот раз удивился приятному, бархатистому голосу инструмента.
— Получается, а? — спросил он Настю, но, проводив взглядом напуганного кота, смилостивился: — Ладно, пойду в общежитие. Так и быть…
За опробованием баяна застали его вернувшиеся лесорубы. Степенный Сухоручков, войдя первым, сказал только:
— Ого, музыка появилась!
Высокий, всегда пасмурный, Коньков хлопнул в ладоши и, выбросив вперед ногу, пристукнул пяткой. Обут он был в растоптанные валенки, потому Сухоручков спросил как бы шутя:
— Подошвы показываешь? — И по-деловому — Латышеву, благо нашелся повод: — Валенки новые пора выписывать, Антон Александрович. Срок вышел. Да и брюки ватные надо бы поменять.
Борис Усачев приостановился на пороге, обрадованно загорелись глаза. Улыбаясь, забыв поздороваться, принял у инженера инструмент. На вытянутых руках, словно боялся запачкать о спецовку, поднес ближе к лампе. И только там, присев на краешек скамейки, любуясь на утонувший в черной глубине полировки блик отражения, яркий, как сама лампа, выдохнул:
— Новосибирский… Полный…
И, полузакрыв глаза, растянул мехи, сверху вниз пробежав правой рукой по всем клавишам.
Баян выкрикнул что-то, сыпанул щедрую россыпь разноголосых звуков, сник на высокой стеклянной ноте…
— Может! — кивком головы показал на музыканта Сухоручков и хотел продолжить разговор о спецодежде, но Усачев вдруг откинулся, разворачивая грудь, уронил голову на плечо и заиграл, словно откуда-то издалека принося мелодию за душу хватающей «Лучинушки», приближая ее, но все еще жалея отдать полностью.
Забыв, что собирался сказать, Сухоручков смотрел на Латышева. Вернее — сквозь него, через оклеенную цветастыми обоями стену за ним, через метель и тьму за стеной. Смотрел в зыбкую, как море, как море бездонную, и светлую, и непроглядную глубину певучей грусти.
Вечно недовольный, суетливый Коньков, привалясь к распахнутой двери, зажмурив глаза, беззвучно шевелил губами. Иван Тылзин в темных сенях не решался перенести ногу через порог.
А мелодия крепла, ширилась. Баян пел во всю мощь. И когда он неожиданно умолк, люди продолжали прислушиваться к чему-то…
И только один человек — Борис Усачев — собранно, победно тряхнул головой, испытующе оглядев слушателей. Его взгляд встретился с блестящим от слез взором Насти. Он отвел глаза и снова проиграл гамму.
— Не ожидал. Честно говорю, не ожидал! — покаялся Латышев. — Только повеселее бы надо что-нибудь… Посовременнее…
Борис послушно наклонил голову, тронул клавиши. Баян запел с придыханиями, приглашая подпевать:
Колдующее обаяние глубины, в которой каждый видит свое, сокровенное, пропало. Люди заулыбались. Коньков, пританцовывая, прошел к своей койке и стал разуваться. Тылзин движением руки сверху вниз надвинул ушанку на глаза Скрыгину, подмигнул. Сухоручков бочком обошел баяниста и, скорбно покачав головой — оборвалась вешалка, — снял брезентовку.
тихонечко напевала за стеной Настя, не в такт позванивая посудой.
Только Фома Ионыч, не прислушиваясь, подводил итог дню — считал кубометры.
Лесорубы умывались, садились ужинать, А Борис Усачев все играл и играл, переходя от одной песни к другой. Но вот он, оставив баян, вопросительно посмотрел на Латышева. Видимо, его не удовлетворило инженерское «не ожидал!».
Антон Александрович подошел к баяну, рукавом протер затуманившуюся от дыхания музыканта полировку. Он был доволен, довольство открыто просвечивало сквозь торжественное выражение лица, как спелая мякоть — через кожуру яблока.
— Очень хорошо! Просто удача, что вы оказались на этом участке, товарищ Усачев. Очень кстати! Будет теперь на кого опереться… — оживленно заговорил инженер.
Он представлял себе Усачева-баяниста самонадеянным любителем, с грехом пополам играющим несколько избитых песенок. Не верил в его умение. Обрадованный ошибкой, подсознательно стараясь искупить былое недоверие, Антон Александрович поверил теперь в Усачева-культурника, в Усачева-организатора. Здесь позарез нужен был такой человек, и он нашелся. Он превзойдет все ожидания так же, как с баяном. «Следует только предупредить его, что это нелегко», — подумал инженер и сказал, грустнея:
— Конечно, трудностей много. Лес, глушь… До сих пор светом обеспечить не можем… Привез я тут кое-какие игры, книги в культотделе пообещали… Что и говорить, на этом далеко не уедешь. Но большего нет! В общем, полагаюсь на вас, на товарища Скрыгина. Сбивайте вокруг себя актив, тяните к себе остальных…
И тут из сеней, где все еще толпились люди, привлеченные музыкой, насмешливо выкрикнули:
— Другим баяном, начальник, тянуть надо. Двуручным, который пилой называется. Работать надо, положенные кубики давать.
Это сказал Шугин, который никогда не ратовал прежде за кубометры, за план, за производственные показатели участка.
У Бориса Усачева помутнел взгляд.
Каждый человек имеет право плясать, петь или играть на баяне. Но песня, залихватская присядка, с душами разговаривающая гармонь хороши в праздники. В будни за это не уважают. Только работа служит мерилом доблести там, где людям не приходится меряться ничем иным. Здорово, когда умелый товарищ по ремеслу может играть на баяне. Но если баянист взялся пилить лес, не по игре — по работе судят о нем.
Борис Усачев знал это.
Он понимал, что здесь, на Лужне, похвала человеку укладывается в близкие и понятные каждому слова, счетом немногие:
«Крепкий работник».
«Добрый хозяин».
И только в приложении к работнику или хозяину имеющее цену, вес и значение — «хороший парень».
Про него могли бы сказать последнее. Без приложения к главному. То есть ничего.
Он пошел в лес, поверив приятелю-однополчанину, что в лесу можно, не связывая себя надолго, заработать деньги. Хорошие деньги. Нужны ловкость и сила, говорил приятель.
Неплохой физкультурник, Борис считался ловким. У него есть сила, хоть отбавляй. Но если он, окучивая напиленный лес, лихо подхватывал бревно стяжком, ему кричали:
— Эй, друг! Под середку берешь — не переломи!
Это не силой его восхищались, не за ретивость хвалили, а насмехались. И бревно, играя на заломленном под середину стяжке, тоже насмехалось.
Умение, опыт — они не приходят сразу, а Борис Усачев не мог ждать. Потому что, накапливая опыт, учась, он должен быть учеником, мальчишкой!
Возможно, Борис примирился бы с этим. Мешал Виктор Шугин, подонок, прощенный вор, здесь имеющий право кричать Усачеву: «Не переломи смотри!» «Работать надо!»
Он — ему!
Фома Ионыч, обходя пасеки, застал Усачева сидящим на покрытой снегом валежине. Парень, упираясь локтями в колени, покусывая сведенные вместе кулаки, молчал.
Мастер посмотрел на выгнутую горбом спину, словно надломленную непосильной тяжестью. Он жалел парня, угадывая в какой-то мере его состояние: горяч, с маху не вышло, вот и опустил крылья…
— Чего это напарник у тебя? Приболел? — спросил он у Скрыгина, копавшегося в магнето «Дружбы».
— Нет вроде… — Тот поднял голову, глянул в сторону товарища и скорбно дернул углом рта: — Это он так чего-то…