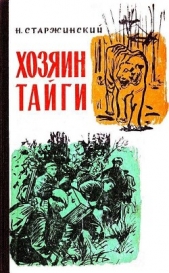Это случилось в тайге (сборник повестей)

Это случилось в тайге (сборник повестей) читать книгу онлайн
Анатолий Клещенко — ленинградский прозаик и поэт. Первые стихи его были опубликованы в 1937 году, затем он долгие годы работал на Северном Урале и в Приангарье на лесозаготовках, на рудниках, занимался промысловой охотой. Вернувшись в Ленинград, Клещенко становится профессиональным писателем, он автор нескольких стихотворных сборников и ряда прозаических книг. В декабре 1974 года А. Клещенко трагически погиб на Камчатке, где он последние шесть лет работал охотинспектором, собирал материал для своих новых книг.
В эту книгу вошли повести «Распутица кончается в апреле», «Дело прекратить нельзя», «Когда расходится туман» и «Это случилось в тайге». Действие всех повестей происходит в Сибири, герои Клещенко — таёжники, охотники, исследователи. Повести остросюжетны. В обстоятельствах драматических и необычайных самыми неожиданными гранями раскрываются человеческие характеры. Природа в повестях Клещенко поэтична и сурова, — писатель отлично читает ту сложную книгу жизни, в которой действуют его герои. Проза Клещенко — мужественная, добрая и человечная.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Покончив с борщом, Фома Ионыч пододвинул к себе тарелку с жареной картошкой.
— Чижиков, наверно, в Чарынь своих привезет. К Ивану Горбашенкову, свояки они, что ли. У него жить будет. Да, бензопил новых прислали две только. Крутись как хочешь — им там и горя мало. А тут еще эти демобилизованные. Сухачев или Рогачев, да этот, с железными зубами, Скрыгин. Леса не нюхали.
— Деда, а ты директору докладную напиши. Насчет пил.
Он отмахнулся гневно:
— Пиши не пиши, а если на складе их нету…
В дверь постучали…
— Не заперто, — громче обычного сказал Фома, Ионыч.
В дверях стоял тот парень, с которым Настя днем столкнулась в сенях. Она определила это по росту и по сапогам — свет от подвешенной на стене лампы застила открытая дверь. Лицо парня пряталось в тени.
— Извините за беспокойство…
— Что скажешь? — перебил его не привыкший к подобным вступлениям Фома Ионыч.
Парень на мгновение потерялся, но продолжал без тени смущения, обращаясь к Насте:
— Я к вам. Мастер говорил, что вы в институт готовитесь. У вас, наверное, художественная литература должна быть…
— Дверь-то закрой, — напомнил Фома Ионыч. — Дует. Не лето ведь на дворе…
Парень притворил дверь, свет лампы упал ему на лицо.
Это было лицо знающего себе цену, довольного собою и жизнью человека. Взгляд ждущий и настойчивый, но без тени наглости. Чувствовалось, что парень не привык прятать глаза. Плотно сжатый рот и подбородок кажутся выдвинутыми вперед благодаря привычке высоко нести голову.
«Любит задаваться», — по-своему определила Настя и, сделав неуверенный жест в сторону полки с книгами, сказала:
— У меня мало, я сама в библиотеке беру. Посмотрите…
— Если разрешите, — чуть наклонил голову парень. Поскрипывая сапогами, твердо прошел к полке.
Книги стояли с наклоном вправо. Одним пальцем, как перелистывают страницы, он перебрасывал их влево, сообщая о каждой:
— К сожалению, знакомо… Читал… Это я знаю… Довольно скучная книжонка…
И вдруг, отделив ладонью просмотренные уже, принялся объяснять:
— Понимаете, так сказать, необычная обстановка. Заняться нечем. Хотел скоротать вечер за книжкой.
Его взгляд просил каких-то поощрительных слов, повода для продолжения беседы. Но Настя молчала.
Перебрав все книги на полке, он остановился на «Поднятой целине», сказав:
— Читал когда-то, но можно и перечитать…
Настя решила: не читал, хвастается. Но парень, явно желая вызвать ее на разговор, постарался доказать, что говорит правду:
— Тут есть очень смешные места. Как Щукарь кашу с лягушками варил. Вы читали?
— Читала, — пришлось ответить на вопрос Насте.
— Ну и как? Понравилось?
— Ничего, — она сердилась за нотки покровительства, услышанные или померещившиеся в голосе парня.
— Сюда бы библиотеку из нашей части. Можно бы жить, — сказал он.
Тогда Насте захотелось сбить с него спесь:
— Что же это вы, из армии — и в лес?
Она знала: для деревенских парней армия была воротами в мир. В армии получали специальности, армия открывала дороги всюду. Мало кто возвращался в деревню — разве что погостить, показать себя.
Парень оправил под ремнем и без того безукоризненно разглаженную гимнастерку, объяснил просто, без рисовки:
— Мечтаю приехать домой с баяном. Ну, и приодеться надо. А в армии какие деньги? На табак… Устраиваться по специальности на два-три месяца не имеет смысла. А тут работа сезонная. Да и заработать можно на лесоразработках…
— Откудова сам? — вмешался Фома Ионыч.
— Сибиряк. Из-под Томска. Слышали, наверное…
— Слыхал. А второй, который с зубами, тоже оттуда?
— Скрыгин? Никак нет, местный.
Он подождал, не спросит ли мастер о чем-либо еще, и, чувствуя, что ниточка разговора с Настей оборвана, заверил:
— О книге не беспокойтесь. Верну в целости. Разрешите идти?
— До свидания! — сказала Настя.
Парень повернулся по-воински. Гимнастерка, разглаженная спереди, сзади была собрана меленькими, опрятными складочками.
Фома Ионыч проводил его благожелательным взглядом. Погодя похвалил:
— Подходящий, видать, малый. Солдатчина — она всегда выучит. Там человеком сделают.
И неожиданно закончил:
— Однако — Усачев. А я — Рогачев. Тьфу! Вовсе не стало памяти…
Настя осуждающе покачала головой:
— А похвастать, что я в институт готовлюсь, не забыл!
— К слову пришлось. У Тылзина Ивана Яковлевича дочка в техникум поступила, ну и… разговорились… — оправдывался Фома Ионыч.
Прибыли новые лесорубы. Заселили пустовавшую половину барака. Работы прибавилось — топить лишнюю печь, полов мыть куда больше. «Вот и все, что изменилось!» — сказала бы Настя.
Фома Ионыч добавил бы: «Заготовка древесины по участку увеличилась на столько-то кубометров». И непременно бы оговорился: «Пока…»
Это «пока» означало уверенность, что новички не развернулись еще как следует. Применяются к новым условиям, к новой технике. Да и вообще, стоит ли говорить об этом до снега, до нормальной вывозки по ледянкам?
А в бараке, на двух его половинах, по-разному жили люди. Разные люди, не похожие друг на друга и еще более не похожие одни на других, новые жильцы на старых. Жили, стараясь не мешать соседям за стенкой, чтобы от греха подальше.
— Не получается дело с твоим активом, — доложил Фома Ионыч приехавшему «утрясти организационные вопросы» инженеру Латышеву.
Тот мотнул головой в сторону левой половины барака:
— Пьют?
— А чего им еще делать?
— Да… — собираясь с мыслями, вспомнил Латышев. — Начальник милиции на партактиве опять шум поднимал. Говорит: беремся людей выправлять, речи произносим, а потом что? Прав Субботин. Потом — как у нас: живите себе по-своему!
Фома Ионыч, помусолив во рту карандаш, которым подсчитывал что-то для отчета, спросил с ехидцей:
— А чего он хочет, Субботин? Чтобы их, значит, за ручку водили? Их, Антон Александрович, не шибко поводишь…
— Какие-то пути надо искать, Фома Ионыч… Воспитывать… Чтобы коллектив болел за этих людей…
— Верно, что на речи-то вы мастера! — недовольно забрюзжал Фома Ионыч. — Как ты его воспитывать будешь? Говорить: не пей да не воруй? Об этом, брат, сорок лет Советская власть твердит, и раньше по божественным книгам попы учили. Там же еще сказано было: имеющий уши да слышит! А ежели человек не хочет услышать, тогда как? Чтобы коллектив болел! Ну, сказал! У меня внучка вон как за ихнюю пьянку переживает, а что толку?
— Вот и подумаем все вместе. Сегодня партсобрание созвать надо. Теперь у тебя на участке четыре коммуниста. Да комсомольцев двое.
— Ну и что? Ну и четыре! — начал раздражаться Фома Ионыч. — Я тебе наперед все расскажу за них. За Тылзина, и за Сухоручкова, и за Фирсанова нашего чарынского. Скажут, что воспитывать надо, и болеть, и — что ты еще говорил?.. А как таких воспитаешь? Агитацию проводить? Да твоя агитация в одно ухо влетит, а в другое — тю-тю! — вылетит. Пошлют они тебя с ней подальше. Душу у человека задеть надо, Антон Александрович! Душу! Тылзин, или Васька Фирсанов, или я — можем такое? Скажи, можем?
Латышев промолчал.
— То-то, милок! — вздохнул Фома Ионыч и, тоже помолчав, добавил: — И еще нужно, чтобы душа имелась. Вот и подумай…
Инженер думал.
— Понимаешь, Фома Ионыч, — заговорил он погодя. — Надо, чтобы тянулись они к чему-то. Увлечь чем-то. Чтобы вросли в коллектив…
— Голые, опять же, слова, — возразил мастер. — Каким лешим их увлечешь? А насчет «врасти» — как они в Конькова врастут, ежели он и во сне боится, что упрут часы? Да и я, грешным делом, побаиваюсь. Народ такой, что лучше от него в сторонке… милиция отсюда далече…
Инженер развел руками: верно, слова голые. Но вовсе ничего не говорить, ничего не пытаться — еще хуже! И он сказал с укоризной:
— Да что ты, Фома Ионыч! Стыдись!
Фома Ионыч хотел было ответить, но только вздохнул — который раз уже! — и демонстративно занялся своей трубкой.