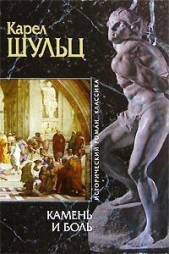Камень на камень

Камень на камень читать книгу онлайн
Роман «Камень на камень» — одно из интереснейших произведений современной польской прозы последних лет. Книга отличается редким сочетанием философского осмысления мировоззрения крестьянина-хлебопашца с широким эпическим показом народной жизни, претворенным в судьбе героя, пережившего трагические события второй мировой войны, жесткие годы борьбы с оккупантом и трудные первые годы становления новой жизни в селе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не злись, — сказал я. — Я тебе кое-что принес.
— Мне? Ну да? Ой, видать, здорово тебя допекло. А может, прельщаешь просто.
— И не думаю. Держи. Нейлоновые чулки.
— Ты что? — не могла поверить Каська. — Господи Иисусе! Вот чудеса!
— Приезжала торговка, я и купил тебе. Будет в чем пойти в костел.
Она развернула чулки и, точно ленты, начала прикладывать к волосам, к плечам, гладить, прижимать.
— Ходят уже в костел в таких, — сказала. — И в костеле тесно, где там на ноги смотреть. Я здесь буду в них ходить, в магазине. Пусть у этих чертовых баб зенки повылазят. Начнут допытываться, откуда у тебя, Каська, такие чулки? Жених подарил. Так у тебя жених есть? Есть. И не жаль тебе их в магазине трепать? Чего жалеть. Порвутся, он мне новые купит. Должно, он у тебя богатый? Богатый. Поженимся — дня лишнего за прилавком не простою. Самые богатые таких каждый день не носят, а я буду. Пускай все лопнут от зависти.
— Да кто ж через прилавок заметит, что у тебя на ногах?
— Не заметят? Ох, дуреха, а мне и в голову не пришло. Ну, буду выходить за каждым дверь закрывать, они ж, дьяволы, редко кто за собой закроет. День-деньской разоряешься, закрывайте да закрывайте. В глотке уже саднит. А не то мух возьмусь гонять. Висят липучки вроде, да они, видно, дерьмом намазанные. Одна муха приклеится — фру-у-у, и уже отклеилась. Ладно, твоя взяла, запру магазин. Тебе причитается. Эх ты, что б я для тебя не сделала! Только чего бы вывесить? Прием товара? Нет, а то завтра с утра слетятся: что привезли? Эх, была не была, напишу, пошла в контору.
А мимо той я снова проходил как сослуживец мимо сослуживицы. Здрасьте. Здрасьте. И не больше. Но как-то выхожу после работы из гмины и вижу, она впереди идет, потихонечку, не торопясь, точно кого-то ждет. Я уже было ее обогнал, когда она вдруг остановилась и заговорила со мной:
— Вы что, на меня обиделись, пан Шимек? — спросила шелковым голосочком.
— Обиделся? Что вы! На вас? — возразил я горячей, чем бы хотел.
— Вы меня как будто избегаете. Извините, может быть, я тогда вас задела. Но меня, правда, король этот почему-то насмешил.
— Да что вы, пустяки какие. Я уже и забыл.
И проводил ее до конца деревни, за мостик. А поскольку в ближайшее воскресенье пожарники устраивали на поляне в лесу гулянье, спросил, не пойдет ли она со мной. В лесу, значит, недалеко от Ланова. Я бы за ней зашел, а после гулянки, ясное дело, проводил. Она охотно согласилась. Только заходить не нужно, она сама придет, а на гулянке встретимся.
Снова во мне ожила надежда. Танцор я был хоть куда, не одной только танцами голову вскружил. А уж польку, оберек никто в округе так не отплясывал. Хотя после войны появилось на гулянках немало танцоров помоложе, которые умели и фокстроты разные, и прочие выкрутасы, но польку или оберек — никто, как я. Танго, вальс у меня тоже неплохо получались. А больше всего я любил «Дунайские волны». Только если хочешь побыстрей договориться с девушкой, ничего нет лучше польки или оберека. Во время танго или вальса слишком много говорить приходится. И выдумывай всякие небылицы, когда известно, чего тебе хочется. А будешь помалкивать, девушка решит — у тебя лишь одно на уме.
Оказалось, Малгожата ни польки, ни оберека не любит. И танцевали мы одни медленные. Зато она вроде бы легонько ко мне прижималась: Только что проку, когда какая-то неведомая сила не давала мне рукой шевельнуть у нее на спине. Там у ней пониже затылка вырез на платье был, и я вполне мог как бы невзначай по этому островочку ее погладить, может, она бы тогда крепче прижалась, по коже совсем не то, что через платье. Но моя рука точно приклеенная лежала у ней на спине, и ни туда, ни сюда. А в той руке, в которой я ее пальцы держал, казалось мне, я птенца держу, и боязно было, как бы его не придушить.
Надо выпить, подумал я, иначе не будет толку. Из-за всего этого я несколько раз сбивался с ноги, а такого со мной никогда не случалось. Правда, она мне сказала, будто не думала, что я так хорошо танцую. Сама тоже танцевала неплохо. Но мне-то что, мне совсем другое было нужно. Принес из буфета пол-литра и тарелку бутербродов. Думал, с полчетвертинки и она выпьет. Не много, но и не мало, в самый раз, насколько я знаю ихнюю сестру. А я четвертинку с половинкой, вот мы и будем на равных. Но оказалось, она и водки не пьет.
— Хоть полрюмочки, панна Малгожата, — пробовал я ее уговорить. — Сразу хорошо станет. Какое гулянье без выпивки? Этак что на гулянку идти, что к вечерне — один черт. Вы только поглядите, панна Малгося, все пьют. И девушки тоже. Одни с тоски, другие во здравие, а еще каждый по своей причине пьет. Водка людей поддерживает. И веселишься в охотку, а умереть понадобится, с большей охотой умрешь. После рюмочки смерть с весельем как бы сходятся. Если б я в партизанах не пил, уж не знаю, танцевал ли бы здесь с вами сейчас. А так среди пуль как среди ракитовых кустов ходил. На трезвую голову иной бы раз совесть заставила руку дрогнуть. А выпил — совесть сама по себе, рука сама по себе. Вы ведь, панна Малгося, кофточки не взяли, а вечера уже холодные. Согреться надо. И в голове если чуток зашумит, не вредно. Так что никакого стыда нет выпить рюмочку. Стыдней не выпить. Ну, Малгося?
Но она уперлась, и ни в какую. И сразу — что ей пора домой, поздно уже, и если я не хочу, могу ее не провожать, сама дойдет. Нет так нет, думаешь, я упрашивать буду? Интересно, Маслянке тоже приходится тебя просить? Но проводить провожу, свои обязанности я знаю. Схватил бутылку и выпил сам все пол-литра. А потом и бутылку, и рюмки, и остатки бутербродов зашвырнул в кусты. Вроде бы что для меня пол-литра? Обычно по литру на нос выпивалось, душа тогда настежь распахивалась, просторная, как овин, чистая, как родник, и ты всю свою жизнь мог зажать в кулаке.
Раз даже, выпив литр, я поспорил на второй, что побреюсь и не порежусь. Пили у Вицека Кудлы. Я договорился, чтобы Кудле срезали плановые поставки, тогда я уже на поставках сидел. В хате даже приличного зеркала не было, осколок какой-то. Да и осколок этот никто не соглашался передо мной подержать, все были пьяные и боялись, как бы ненароком не приложить руки к беде. Бормотали что-то, пробовали меня отговорить, а я направил бритву на ремне, намылил физиономию и давай. Не сходи с ума, Шимек, с пол-литра никто не побреется, а после литра только морду изуродуешь, с бритвой шутки плохи. С бритвой, с косой, с господом богом. Хотя господа бога еще иногда о том, о сем упросишь. Но бритва, когда рука нетвердая и глаз неверный, для нее всё — рытвины да взгорки, а у человека на лице сплошь рытвины, взгорки, и зачем столько на людской физиономии наворочено? Неужто б не хватило одного глаза, например, посереди лба, чтобы им смотреть, пить, есть, говорить, сморкаться и плакать, когда понадобится. А у тебя еще ямка на подбородке и нижняя челюсть вперед торчит. Ладно уж, тащите этот литр, пусть не бреется, лучше выпить, чем смотреть на кровь, из поросенка только когда кровь выпускают — спокойно смотришь, а человечьей каждую каплю жаль. Я в собственных глазах двоился, порой совсем почти ничего не видел, да и бритва в этом зеркальце-незеркальце дрожала, точно и ее страх брал. Все же побрился и ни разу не порезался. Ну, давайте-ка сюда этот литр.
А тогда от дурацкой поллитровки меня так развезло, что я будто сам по взгоркам да по рытвинам шагал, и еще кто-то подо мной нарочно раскачивал землю. А один раз, видать, крепко тряханул, земля прямо ушла из-под ног, и, не поддержи меня Малгожата, я бы наверняка шмякнулся.
— Упились вы, — сказала она. — Не провожайте меня дальше.
— Это только ноги, панна Малгося, — сказал я. — А голова ясная, вон как эта луна над нами.
А луна была как коровье вымя, казалось, потяни ее за соски, хлынет на нас ручьями лунный свет.
— С вами, панна Малгося, я б на край света пошел, и не заблудились бы. Куда б вы только ни пожелали, близко, далеко, мне все равно, мне хоть в лес, хоть в вечность.
Потом понес что-то про партизанское житье, мол, во мне семь ран. Давно заживших, конечно. Но иногда, как вот сегодня, чудится мне, из них сочится кровь. Захоти она, я бы мог ей их показать и про каждую рассказать. Потом стал припоминать, сколько немцев убил. Но что-то больше пяти не мог насчитать. Загибал пальцы на левой руке, но, едва доходил до пятого, эти немцы как в колодец ухали. Что за чудеса! Стрелял, стрелял — и всего пятерых? Неужто остальные воскресли?