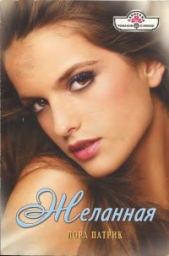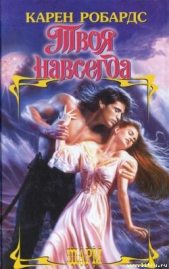Элиза, или Настоящая жизнь

Элиза, или Настоящая жизнь читать книгу онлайн
Героиня романа Клер Эчерли — француженка Элиза — посмела полюбить алжирца, и чистое светлое чувство явилось причиной для преследования. Элиза и ее возлюбленный буквально затравлены.
Трагизм в романе Клер Эчерли — примета повседневности, примета жизни обездоленных тружеников в буржуазном обществе. Обездоленных не потому, что им угрожает абстрактная злая судьба, представляющая, по мнению модных на капиталистическом Западе философов, основу бытия каждого человека. Нет, в романе зло выступает конкретно, социально определенно, его облик не скрыт метафизическим туманом: таков облик капитализма в наши дни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По лестнице поднимался старичок с длинными усами.
— Вы знаете Арезки?
Никого я не знаю.
Мне было слишком жарко в моей суконной юбке. Она прилипала к икрам. Анри ждал на углу, принюхиваясь к запахам казбы. Он беседовал с каким–то алжирцем, который осторожно уклонялся от ответов.
— Его арестовали. Во вторник вечером. Вы не подождете меня? Я зайду к Ферату.
Это был ресторан, где мы иногда ужинали. «Его брат женат на моей сестре…»
— Я пойду с вами, Элиза.
Ферат ничего не знал.
— Схвачено столько…
— Куда они отвезли его? Как узнать?
— Ну… — сказал он. — В Ла Вилетт или…
— Я не могу уехать, Анри. Я должна узнать.
— Но вы ничего не узнаете. Кто вам скажет? Полиция? Ждите, наберитесь терпения, может, его отпустят.
Внезапно я вспомнила о Мюстафе. Мы остановились у ворот Шуази, я подождала у выхода. Как только прозвучал звонок, я ринулась к воротам завода и оказалась перед ними в момент, когда сторож открывал. На меня оглядывались, я была вся в поту, задыхалась. Прошел Мюстафа, я уцепилась за него.
— Они взяли его во вторник вместе со Слиманом, Слиман вчера вышел.
Я умоляла его отвести меня к этому Слиману.
— Я не могу уйти, иначе меня вышвырнут за дверь. У Арезки не было платежной ведомости.
Он объяснил мне, где живет Слиман, и извинился:
— Я должен поесть.
У меня было поползновение догнать его и сообщить о смерти брата. А зачем? Что от этого изменится? Он тоже зачерствел, как Арезки. Он вытаращит свои глазки, придется рассказывать ему, что да как, стоя здесь, на тротуаре, на солнцепеке, в гуще жизни.
Анри, полный снисходительности, отвез меня на Рю–де–Шартр, по адресу, который дал Мюстафа.
— Дело не только в платежной ведомости. Да, если б у него была ведомость, полицейские, может, и отпустили бы его, но… ничего не могу вам сказать, ничего не знаю.
— Во вторник вечером, около девяти, он позвонил мне и сказал, что сейчас придет…
— Знаю, я был с ним. У нас был разговор в кафе, и мы вместе дошли до метро, тут они нас и схватили.
— А потом?
— Потом, не знаю. У меня все было в порядке. А он… не знаю, куда они его отвезли. Нас рассортировали. Мы уже не были вместе.
— Ну, Элиза, будьте же разумны. Нужно ехать в Мант. Вы больше ничего не добьетесь. По возвращении я вам помогу, если хотите. Наберитесь терпения.
Мы приехали в Мант в пятницу вечером, а в понедельник утром вернулись в Париж. Анри очень помог мне. Я делала все, что он велел. Я горевала прилично, пристойно. Что–то во мне кровоточило, но всевозможные хлопоты, поездки взад–вперед между Энкуром и Мантом, Мантом и Парижем держали меня точно под наркозом. Анри сказал, что я не должна смотреть на брата, незачем, нужно сохранить в памяти его прекрасное лицо юного безумца. Я послушно согласилась. Мне казалось, что я занимаюсь подготовкой какой–то церемонии для Люсьена, он, правда, будет на ней отсутствовать, но ничего похожего на небытие, на смерть я не ощущала.
В понедельник, в семь утра мы выехали из Манта. Я представляла себе Люсьена, удирающего из санатория, обезумевшего от сигналов клаксона, от мысли, что за ним гонятся, неловкого, дрожащего, нервничающего. «Какое безумие, — сказал Анри, — ради бесполезной демонстрации…» Неужели только из–за этого? Не подстегнуло ли его желание видеть Анну? Когда я высказала такое предположение, Анри нетерпеливо оборвал меня:
— Но Анна была частью всего этого!
Здесь, на этой плоской равнине, оборвалась история его жизни. Неудавшаяся жизнь, нелепая смерть. Молодые герои века умирали за рулем, в гуле космических скоростей, а он убился на мопеде. От его кончины не останется ничего, кроме этого карикатурного образа, лишенного даже тени романтического ореола. Он тоже хотел принять участие в деле; он думал, что Париж прогремит, а Париж всего лишь чихнул. И никто, кроме нас, любивших Люсьена, о нем и не вспомнит.
— Ну и что? — сказал бы он своим язвительным тоном. — Что с того?
Мы проезжали через какой–то городок, когда я заметила на тротуаре мальчонку, державшего в руках два хлеба, он перебежал улицу перед самой машиной. И я почему–то вспомнила песенку, подхваченную братом лет в двенадцать: он не переставая бубнил ее у себя в комнате, на лестнице, вызывающе насвистывал мне в лицо:
Наш Ганс фон Члокнок все, что хочет, имеет,
Но то, что имеет, того он не хочет,
А то, чего хочет, того не имеет.
Наш Ганс фон Члокнок все, что хочет, болтает,
Да только словам своим сам он не верит.
А то, чему верит, словам не доверит.
Наш Ганс фон Члокнок — перелетная птица,
На месте и часу прожить он не может,
А если и может — тоска его гложет
[11]
.
— Ты типичный Ганс фон Члокнок, — говорила я, а он злился.
— Вот и Париж. Отвезти вас домой? Поедем по Внешним бульварам, так быстрее.
Анри понял, что мне не хочется разговаривать, и не открыл рта с минуты отъезда. «Вот и Париж». Эти слова пробудили меня.
Все это время, до мгновения, когда мы вырвались из тоннеля, которым начинается и кончается автострада, я думала только о Люсьене. Меня отделяли от людей зелень деревьев и полей, переливы неба, то серого, то розового, часы, прожитые в шепоте больничных коридоров и административных кабинетов, путешествие в Энкур, где мне вручили вещи Люсьена. «Вот и Париж». Завеса разрывается. Здесь начинается город с его чрезмерностью. Прямые улицы, у которых отнята таинственность. И горизонт стягивается до лоскутка неба между притиснутыми друг к другу зданиями. Он откровенно синий. День будет жарким. На женщинах открытые платья без рукавов. Арабы чинят тротуар. После Отейского виадука мы все чаще стоим, заторы. Это Париж. Здесь, в грохоте, в пестроте смешанной городской толпы я вновь обретаю Арезки.
Университетский городок. Красный кирпич напоминает английские колледжи, которые я видела на картинках в учебниках брата. Глядя на старые камни, на студентов, направляющихся к бульвару, я вдруг решаю, что Арезки ничто не грозит. Чуть дальше какой–то парень в открытой рубашке зевает, выходя из дома Марокко. Если Арезки не вернулся, я подниму Париж. Существуют же адвокаты, газеты. Имеет же здесь какую–то цену жизнь человека. Найдутся люди, которые возмутятся, будут кричать, протестовать, требовать. 28 мая не было сном.
У Жантийских ворот дорога мягко идет вниз. Ослепительно сверкает на солнце цемент трибун стадиона. Я читаю на табличке: «Казенный вал». Казенный. Казненный. Статьи 76 и 78 «посягательство на внутреннюю и внешнюю безопасность…» Не так–то быстро они его отпустят.
Мы проезжаем мимо памятника из белого камня: «Французским матерям». Почет, признание заслуг — все это приходит потом, слишком поздно. Спуск кончается, мы поднимаемся к площади Италии. Здесь все слишком знакомо, я, не глядя, вижу на этом старом дерьме — заводе — вывеску: «Автомобили, деревообрабатывающие машины». Мне кажется, я слышу оглушающий грохот конвейера, ощущаю теплоту листового железа.
Вид реки с моста Насьональ наталкивает на мысль о трупах, которые она выносит. О телах, выброшенных в пьяные от ненависти ночи больших облав, о телах тех, кто оказался слаб, слишком много сказал и был за это наказан смертью.
Вдоль бульвара Понятовского стоят многоэтажные дома предвоенной эпохи, охватывающие Париж уродливым кольцом. Отталкивающие фасады, грязно–серый камень, подслеповатые окна, большие внутренние дворы, куда никогда не проникает солнце. Здесь живет рабочая аристократия, которая гонится за буржуазией. Что для этих равнодушных, законопослушных людей жизнь какого–то араба? Эти дома источают любовь к порядку. Я могу кричать, вопить, кто станет меня слушать? Если он жив, то где он? Если он мертв, где его тело? Кто мне скажет? Вы взяли его жизнь, пусть так, но что вы сделали с его телом?