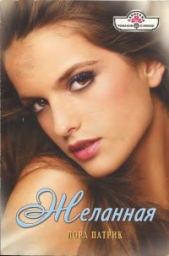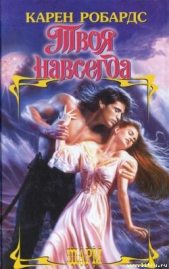Элиза, или Настоящая жизнь

Элиза, или Настоящая жизнь читать книгу онлайн
Героиня романа Клер Эчерли — француженка Элиза — посмела полюбить алжирца, и чистое светлое чувство явилось причиной для преследования. Элиза и ее возлюбленный буквально затравлены.
Трагизм в романе Клер Эчерли — примета повседневности, примета жизни обездоленных тружеников в буржуазном обществе. Обездоленных не потому, что им угрожает абстрактная злая судьба, представляющая, по мнению модных на капиталистическом Западе философов, основу бытия каждого человека. Нет, в романе зло выступает конкретно, социально определенно, его облик не скрыт метафизическим туманом: таков облик капитализма в наши дни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я хотел отказаться…
Язык Арезки заплетался.
— Но если бы я оказал им сопротивление, они убили бы меня у тебя на глазах или схватили бы тебя. Я мгновенно понял это.
— О чем ты говоришь?
Но он уже спал.
Меня поднял звонок будильника. Я двигалась на цыпочках, не зажигая света. Арезки не просыпался. Я подошла, чтоб поглядеть на него, но, защищаясь от слабых утренних лучей, он завернулся с головой в простыню, торчало только несколько черных прядей. В комнате становилось светлее, вещи обретали форму, их контуры еще хранили изящную смутность. Арезки пошевелился. Я подбежала к постели. Мы молча взглянули друг на друга.
Управляющий, который выставлял мусорные баки, видел, что мы вышли вместе.
Арезки купил газету, но читать не стал, зажав ее под мышкой. Я взяла газету, показала ему сообщения, относившиеся к войне. Он пожал плечами, Перед тем как автобус остановился у ворот Шуази, он крепко стиснул мои пальцы, я ответила ему таким же пожатием.
Звонок раздался в тот момент, когда он занял свое место на конвейере. Я пришла за несколько минут до него и болтала о всяких пустяках с Мюстафой. Я была пьяна, страсть, которой я не ощутила ночью, сейчас нахлынула на меня. Я мечтала оказаться наедине с Арезки, схватить его руку и целовать ее в то беззащитное место, где скрещиваются вздутые вены.
После отъезда Люсьена я ощущала одиночество, несмотря на присутствие Арезки. Брат никогда не был мне поддержкой, но я знала, что он близко, рядом, и это успокаивало меня. Бернье пытался поймать нас, следя глазами за Арезки, когда тот приближался ко мне. Если бы я в этот момент допустила какую–нибудь оплошность, он бы безжалостно наказал меня. А промахи у меня в то утро были… Жиль не скрывал досады. Я молча выслушала его замечания. Бернье упивался этой минутой. В обеденный перерыв Жиль пришел за мной. Он подвел меня к каркасу машины и показал на панель приборов. Я пропустила брак, хотя он был виден с первого взгляда.
— Вы отдаете себе отчет?
— Да, она другого цвета.
— Именно! Я мог бы вам показать еще многое. Что с вами? Вы больны? Тревожитесь о Люсьене? Или вас волнуют события? Знаете, Элиза, участливость, доводящая до отчаяния, никому не приносит пользы.
Видя, что я не хочу отвечать, он не стал настаивать. При выходе из цеха меня остановил профорг.
— Не позволяйте садиться себе на шею. Начальник, даже Жиль, не имеет права задерживать вас после звонка.
— Он расспрашивал о брате.
— Перед машиной, которую вы проверяли?
Я отошла и спустилась к телефону. Сначала я позвонила Анне в общежитие, но ее не было. Тогда я попросила Энкур. Мне не удалось получить никаких сведений о состоянии брата.
Всю вторую половину дня я еле–еле двигалась от машины к машине, а вечером, вернувшись в свою комнату, рухнула на постель и заснула одетой.
Назавтра управляющий вручил мне записку, оставленную Анной.
— Я пользуюсь случаем, чтоб напомнить вам, — проворчал он, — что оставлять на ночь лиц, не записанных в книге, воспрещается. В особенности… иностранцев.
«Элиза, вчера вечером я была в Энкуре, но это был час процедур, и мне не удалось повидать Люсьена. Меня успокоили. Нам разрешено посетить его 4 мая. Я предупредила Анри. Он отвезет нас».
— Ты поедешь, Арезки?
— Нет, зачем я там?
— Познакомишься с Анри, с Анной, и Люсьен, я уверена, будет рад поговорить с тобой.
— Нет, мне не нужны ни Анри, ни Анна. Ни с кем не хочу знакомиться.
Он пришел в воскресенье, как обещал. Накануне он вызвал меня к телефону, но присутствие управляющего стесняло меня.
— Элиза, ты в обиде на меня? Ты сердишься? Терпи меня, какой я есть, если ты меня любишь. Ты меня любишь?
— Да, конечно.
— Я приду завтра. Я буду свободен вечером и останусь до понедельника. Ты согласна?
— Да, разумеется.
Мы курили одну сигарету. Арезки жульничал, он затягивался два раза, потом отдавал сигарету мне, я тоже жульничала, я просто дула, чтоб заалел кончик сигареты. Мы еще не зажигали света, хотя мрак заполнил комнату, и в те минуты, когда сигарета разгоралась, исподволь наблюдали друг за другом. Я не знала, который час; понимала, что поздно. Я не смела прервать этого тихого ночного бдения, которое, казалось, доставляло удовольствие Арезки. Он вздохнул, я спросила:
— Что с тобой, Арезки? У тебя несчастный вид. Разве мы не мечтали о комнате, где будем вдвоем? Мы получили ее. Мы вместе. Чем ты опечален? Чего тебе не хватает?
— Ты права. Мне чего–то не хватает. Трудно объяснить. Мне не хватает воображения. Я не могу вообразить будущего. Мечты не посещают меня больше…
— А настоящее тебя уже не интересует?
— Я ощущаю его как прошлое. Ты можешь это понять?
Я ворошила его волосы. Все во мне трепетало от этого прикосновения. Долгие годы я испытывала желание дотронуться до волос Люсьена. Когда он был маленьким, я причесывала его, любила погружать пальцы в его шевелюру, гордилась ее густотой и темным блеском. Потом, однажды, он грубо оттолкнул мою руку, и больше никогда я не гладила его волос.
— И мы уподобимся мертвецам тысячелетней давности.
— Что?
— Ничего, не бойся, это стих арабского поэта, я позабыл начало. Он говорит, что нужно жить мгновением. Они пишут все это в спокойные времена, когда опасность миновала. Мы тоже живем мгновением. Зажги свет, Хауа. У тебя здесь нет ничего спиртного?
Я встала и пошарила в шкафчике под раковиной. Я не нашла ничего, кроме маленького флакончика рома, такие покупают обычно, чтоб придать аромат тесту. Он был почат, я вылила остатки в большой стакан. Я попыталась, шутя, приподнять его голову и дать ему напиться. Его печаль меня стесняла.
— Ты любишь синий цвет?
— Да, очень. Но у синего много оттенков.
— Такой, как море, зелено–синий. Но ведь ты никогда не видала моря?
— Нет, никогда.
— Когда–нибудь увидишь. А в следующем месяце я принесу тебе длинный домашний халат такого синего цвета.
— Халат, Арезки! А еще говоришь, что у тебя нет воображения. Желать значит воображать!
— А говорить громко — убеждать себя.
— Ты просто устал. Я это сразу увидела, когда ты пришел и лег. Как ты живешь? Когда ты отдыхаешь?
Он попросил дать ему сигареты из кармана пиджака.
— Я всегда в бегах, туда, сюда… У полиции сила, понимаешь…
Он понюхал стакан, пригубил и поставил, не выпив.
Приглушенный свет сочился из–под красного абажура, купленного Люсьеном, смягчая угловатость лиц. Арезки делался разговорчивее, когда курил. Но я плохо слушала. Мне хотелось от него защититься, я противилась отчаянию, закрывала дверь перед тенями. Он говорил. Уставившись в алый абажур, он жаловался глухим, низким голосом. Как и Люсьен, он утверждал, что тело не в счет, что его нужно использовать до полного износа, что усталости, недосыпанию нечего придавать значения. Он объяснял, как сложна борьба, которую они ведут. Нужно научить братьев всему: мыться и не плевать в метро, платить взносы, нужно привить им осторожность маскироваться, терпеть.
— Ты не представляешь себе, что такое люди. И я первый. Здесь я пью, там — наказываю тех, кто пьет. Война не украшает человека.
Я подбадривала его, утешала. Разве война не подошла уже к решающему моменту? В общественном мнении наметился поворот, люди начинают понимать.
— Кто? — прервал он. — Элиза, Люсьен, Анри? Сколько вас?
И поскольку я протестовала, он, желая доставить мне удовольствие, согласился.
— Иди сюда, только закрой окно, холодно. Ну, расскажи мне что–нибудь.
Рассказы стали нашим убежищем. Рассказы о бабушке, о гавани, о пейзажах Кабилии, об устойчивых, безобидных предметах и людях. Иногда удавалось забыться. Но внезапно одно слово, вздох, жалоба возвращали нас к исходной точке, к тему, что нас действительно заботило.
— Я не увижу тебя целую неделю.
Я опустила голову и спросила:
— А в субботу?
— Нет, только не в субботу, ты же знаешь.