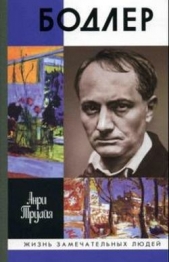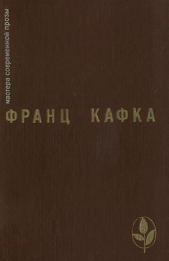Гибель всерьез
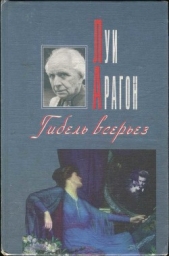
Гибель всерьез читать книгу онлайн
Любовь и смерть — вечная тема искусства: Тристан и Изольда, Джиневра и Ланселот, Отелло и Дездемона… К череде гибельно связанных любовью бессмертных пар Луи Арагон (1897–1982), классик французской литературы, один из крупнейших поэтов XX века, смело прибавляет свою: Ингеборг и Антуана. В художественную ткань романа вкраплены то лирические, то иронические новеллы; проникновенная исповедь сменяется философскими раздумьями. В толпе персонажей читатель узнает героев мировой и, прежде всего, горячо любимой Арагоном русской литературы. Но главное действующее лицо "Гибели всерьез" — сам автор, назвавший свой роман "симфонией зеркал, галереей автопортретов художника в разных ракурсах".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
О Эхо, Эхо, никогда средь королей и королев, застывших в камне, ты не уснешь, и мне не ревновать тебя к хозяевам Роскильде, теснее сдвинут два-три гроба с остывшим прахом так, чтобы место, приготовленное Каролине-Матильде, не зияло в ряду гробниц, ты же будешь далеко от Хельсингора, на острове, овеянном криками птиц, но ты их не слышишь — на смертном одре с тоской вспоминаешь другое ложе — в комнате близ часовни, где потайной ход; ну что же, могильщик, лихой молодец, у песенки старой чудной конец:
But age with his stealing steps
Hath claw’d me in his clutch,
And hath shi pped me into the land
As if I have never been such…
[63]
«Старость, крадучись, как вор»… теперь мне уже не надо стряхивать пудру, идя к тебе, отряхивать голову, которую отсек палач. Старость, крадучись, как вор… подменяет мне небо и ночи, и волосы мои белы без пудры! Когда же старость, крадучись, как вор, возьмет меня рукой — не все ль равно, ее стараниями или палача я окажусь в земле, — когда я сгину, будто бы и не было на свете этого малого с волчьими зубами, горящим сердцем да копной соломенных волос, в которой терялись твои руки, ты, Эхо, никогда не будешь без меня покоиться в Роскильде.
Где и когда? Вдруг промелькнула тень, встрепенулась душа, и я уже не знаю, кто я. Чужое тело, все чужое: и пальцы, и ноги, налитые тяжестью, и грузное туловище. Сколько мне лет? — странный вопрос, скользящий по склону плеч. Кем я проснулся на этих смятых простынях? Где светлые волосы, где молодость, — исчезло все, осталась лишь тупая боль в груди. Который час? Чьи это руки, чья стареющая плоть, откуда сочится слабый свет? Наверно, Эхо, засыпая, зажгла светильник в изголовье, я поворачиваю голову и смутно слышу голос, сулящий где-то порывистый ветер и град, а где-то снег… на дорогах туман… вьется дорога, катят грузовики, водители слушают песни по радио… Хватит ли у меня еще сил, чтобы уехать на другой конец света? Нет больше падающих на лоб упрямых прядей. И больше никто не назовет меня Иоганном-Фредериком, никто. Светлые волосы, молодость — все исчезло. Я другой. И все слова, которые шевелятся во мне, звучат совсем не по-немецки, у них совсем иная музыка. Что я забыл? Вену или всю свою жизнь? Забыл несчастного врача из Альтоны, как забыл самого себя. Все — наважденье, бред, обрывки снов. Вот моя рука: губы скользят по шершавой коже, по тыльной стороне ладони к складкам на запястье. Не шевелись, Эхо, жизнь моя. Радио тихо мурлычет песенку, которой не было в мое время. Как будто я попал куда-то на чужбину, где и птицы поют на другом языке, в какое-то щебечущее Ориноко, совсем другие ритмы, прерывистые, повторяющиеся слова, голос женщины, куда-то ускользающей, когда, кажется, уже держишь ее в объятиях… Неужто мы так далеко, что все вокруг нам кажется и чужим, и родным?
Где и когда? Я больше не тот белокурый немец, что был твоим возлюбленным, королева моя. Мне уже не стряхнуть пудры с волос.
Вдруг пение стало громче. Я даже различаю слова, что пробиваются сквозь обволакивающую слух пелену. Вот голос нахлынул волной, залил всю комнату и снова сделался тише, послушный твоим пальцам. Припев, как пульс, короткие слова: «О гитара моя, гитара» — или что-то еще в этом роде. Так ты не спишь, о Эхо, ты не спишь? О нежная моя, нагая, а я — что я, сухая ветка у тебя под ногами, запутавшаяся в твоем длинном подоле, подхваченная им, как камушек, как лист… я старик, я для тебя лишь смутное воспоминанье. Надевать чью-то маску, чтоб удержать тебя, бесполезно, жизнь не удержишь, как охапку сена, чье бы обличье я ни принял, хотя бы того же Иоганна-Фредерика Струенсе, что родился в Галле, провинции Бранденбург, пятого августа 1737 года, а в тридцать пять лет — прекрасный возраст, чтобы умереть, — в конце марта 1772 года, в копенгагенской крепости был обезглавлен вместе с Брандтом, своим другом, о котором я здесь не говорю, чтобы не запутать тебя вконец, за то что любил Каролину-Матильду, сестру Георга III Английского, но также и за то, что пытался использовать деспотизм на благо простого люда, так что его проступки оскорбили и строгих поборников морали, и власть имущих, подлинных хозяев королевства. Нет, бесполезны символы в великом хаосе времен.
Что за вихрь, что за буря грохочет? Клавиши встают дыбом вслед за стремительными пальцами и тихо опускаются каждая на место, все ноты в ряд, как распрямляются травинки, примятые кабаньими копытами. Позывные внешнего мира: радио «Франс-Интер», новости дня, дрожит скоба, прогибается засов, — да-да, хоть, может, здесь не Кристиансборг, какая разница, — засов на двери, что отделяет нас от короля-безумца. Дверь, отделяющая нас от мира. Я понял, вот откуда нам грозит беда. Сошлись светящиеся веки зеленого глазка. Последние известия вот-вот взломают створки, удержится ли наш засов на этот раз? — нет, кончено, ты чувствуешь, нас обдало холодным ветром? Людская боль наступает на нас, как наемное войско, я слышу вопль толпы, скрежет тормозов, шаги грабителей, тяжелое дыханье страха, земля нынче ночью строптиво вскинулась — и целого города как не бывало: трупы, руины, пожары, бурлящее море… где это все? название, которого я прежде не слыхал, и даже не могу сообразить, как пишется… Анкоридж[64], красиво звучит, город, о чьем существовании я узнал в тот день, когда оно едва не прервалось по милости землетрясения. Оно произошло в Страстную Пятницу, и перья обезумевших сейсмографов вычерчивают размашистые петли, разрывая бумагу… И ты, еще не до конца очнувшись ото сна, ты тоже вздрагиваешь, и тебе, как колебания земной коры, передаются все горести мира: страдания плоти и духа, боль целого народа или малого ребенка, разлука, одиночество, война. Что снится тебе, когда ты снова шепчешь: «Обними меня», и я всем телом ощущаю тот стон чужой боли, что захлестывает сердце, как порыв ветра.
А радио не смолкает и распевает по-английски новомодные песенки. Две развеселые малютки, поди запомни, как их звать, головкой встряхивая бойко, умеют ловко танцевать, ура, Сильви и Франсуаза, и раз и два, и раз и два, одна светла, голубоглаза, другая жгуча и смугла, быстрее, музыка, быстрее, а что поют, не различить, давай, подружка, веселее, быть, дорогуша, иль не быть, и вдруг помедленнее ритм, слышны отдельные слова, три поворота, три подскока, и все, пока… махнуть рукой, не рассуждать, ох, дети, дети, возьмите руту, розмарин, вам эта песенка под стать:
Клянусь Христом, Святым Крестом.
Позор и срам, беда!
У всех мужчин конец один;
Иль нет у них стыда?
Ведь ты меня, пока не смял,
Хотел женой назвать!
И было б так, срази нас враг,
Не ляг ты ко мне в кровать.
[65]
О, песенка совсем не та, что пели в прошлые года, но все же новые Офелии с поддельным Гамлетом не прочь пробыть всю ночь, и Робин, ветреный дружок, недолго будет одинок, изменит, чуть промчится лето, но вы же знали, знали это, так было с сотворенья мира, прочтите сами у Шекспира:
Веселый мой Робин мне всех милей…
Нет, рифмы я не подберу, стихи такие не к добру, такие песни прямо в ад ведут, я слушать их не рад. Переключи на другой город и на другую любовь, но всюду и вечно наша любовь, я помню всегда о тебе одной, и тень твоя — сияющий шлейф, да, переключи на другой город, чтобы, не размыкая рук, мы пустились с тобою по свету, побывали, где не были прежде, а где же мы были с тобою, Эхо? Помнится, мы все хотели как-нибудь в августе проплыть по Дунаю до Вены… когда же теперь… уж не знаю… мир обезумел, и плыть по Дунаю нечего даже мечтать, лучше забыть, не вспоминать, так же, как те три недели в Вене, помнишь, Эхо, когда вся жизнь повернулась, как на шарнире, все во мне и в целом мире.