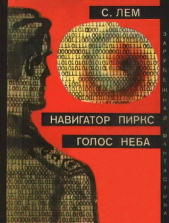Просто голос (СИ)

Просто голос (СИ) читать книгу онлайн
«Просто голос» — лирико-философская поэма в прозе, органично соединяющая в себе, казалось бы, несоединимое: умудренного опытом повествователя и одержимого жаждой познания героя, до мельчайших подробностей выверенные детали античного быта и современный психологизм, подлинно провинциальную непосредственность и вселенскую тоску по культуре. Эта книга, тончайшая ткань которой сплетена из вымысла и были, написана сочным, метафоричным языком и представляет собой апологию высокого одиночества человека в изменяющемся мире.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но об этом все-таки после, правда? Горничная, которая, с наступлением после, предстанет под именем Фортунаты, развела парчовый полог и подвела меня к кипарисовой инкрустированной кровати, на которой хозяйка дома предавалась долгому недугу. Наслышанный от отца, я держал выражение лица наготове, но все же, изогнувшись для поцелуя, инстинктивно завел руки за спину — наотлет, как в танце — и стал одним из аистов желтого стенного узора. Больная была молода, но это не играло роли — сухое лицо с неподвижным, отрешенным от разговора взглядом под выписанными сурьмой дугами; пергаментные пальцы, в беготне которых по одеялу теснилась вся бодрость. Воздушное вещество духоты не висело здесь равномерно, а растекалось лучами от тела; окно под бурой балкой потолка, забранное от мух потемневшей марлей, недотягивалось развеять.
В прорезь полога сунулось любопытное лицо Марка, но было тотчас выдернуто обратно, ему как бы не оказалось здесь занятия. В своем я соблюдал солидность, уступая шелестящим расспросам. Становилось неинтересно; формулировать беспощаднее я стеснялся.
Гомон и топот в атрии провозгласили возвращение Вергиния, энтузиаста утренних визитов. Больная слабо просигналила Фортунате, но дядя опередил в дверях, суетливым кубарем вспенил полумрак страдания. «Вот, дружок, — быстро обратился он к жене, инсценируя знакомство заново, — вот какого умницу мы заполучили у Лукилия. Это в кого же такой рыжий — никак в покойницу?» Он, видимо, сообразил, что сам видит меня впервые. Вергиний был толст и мал головой, отчего как бы конусоидален; его пыльный парик сбился на лоб и торчал на затылке зонтиком. В складках тоги он постоянно прятал слуховой рожок, но стеснялся прибегать к нему без крайней надобности и не допускал пауз в своем разговоре. «Ну-ка, поприветствуй тетеньку!» Делать нечего, я снова вытянул губы в свисток. Из-под затхлого запаха духов остро полыхнуло мочой.
И стало просторно и грустно в груди, словно прозвучало слово-отмычка, и жизнь обнажила прежде сокровенное и неподсудное взгляду, внезапно постижимое навылет. Над разверстым теменем реял кассетный потолок с мелкой мифологической вышивкой, тяжелые этажи в стопку, а дальше светлая высота, внятная отсюда целиком и вниз, как бы внутрь тела, распростертого на столетия, увенчанного солнечной головой; но моментальный и дарованный смерти, трубкоротый над таким же пеплом — кто был тогда этот я в выцветших веснушках осени, который сочился соплями под зорким пожарным взглядом? Как помещался в этом тленном, под тихий пунктир сердцебиения? Вся кровь и внутренность, и глупость — просто карликовый маскарад, блошиный цирк перед обмороком правды, которая произвольно наносит свидания и перехватывает время в горле. Ты — вот местоимение милее всех рухнувшему в бездну сознания — ты человек и больше, вечный город на семи сосцах волчьей земли, где пусть себе селится дядя за дядей, родич или вообще мужской колонист. Я выпрямил глаза: обведенный багровой мясной мякотью, с постели блестел несвежий суповой хрящ, гладко-желтый с глубинным голубым отливом. Дом отца, известный по устным описаниям, Вергиний без угрызений снес, потому что земля дорожала под ногами, и выстроил нынешний доходный, расположившись в нижнем этаже со всяческим комфортом. Из прежней топографии была пощажена лишь пальма — отцовская ровесница или старше, она живьем стоила больше собственной древесины, чего не скажешь о каждом из нас. Летом жили на вилле в Ланувии, а стабианская, куда парализованной стало невмоготу добираться, служила для дружеских одолжений, нужда в которых обострилась с неурочной кончиной Лоллия, автора многих милостей. Вергиний, в противоположность брату, оставался в Сенате, но, не сумев взобраться выше квайстора, желтел омелой на палатинских дубах и теперь чутко тяготел к Тиберию. Нас вытряхнуло в атрий; все во мне норовило наружу, прочь из расписных стен, от слабых уз гостеприимства, разговориться в редком городе выдумки, где собрались соучастники пролагать себе историю в недра, чтобы столетиями гордо восклицать друг другу с ростр: квириты! В дверях двора протарахтел на деревянном рысаке малыш Марк, чудное мочало хвоста взметнулось по ветру — под флаги Камилла или Фламинина. Но уже Вергиний, шаркая в мозолистых парчовых тапках, теснил в таблин обременить расспросами, оправдать родство. Впрочем, судьбу собеседника упрощала немощь слуха: осведомляясь, он немедленно кивал, будто наперед угадывал, и пускался в собственные домыслы, порой сильно отстоящие от существа возможного ответа. Рожок, как выяснилось, он щадил для более тщательных встреч, внимать мудрости осененных фавором, а обстоятельства низших и подопечных постигал без слов, даже с подобающей грустью. Из рассказанного ему запала только недавняя отцовская борода — он даже встал и прошелся из угла в угол, наглядно волнуясь. Письмо, переданное накануне Нигером, было уже распечатано и лежало тут же на столе; пробегая, Вергиний всякий раз прихлопывал его пухлой ладошкой, словно свидетельствовал подлинность понятого, хотя выведал у меня путем монолога мало. Очевидно, участь брата была ему небезразлична, хоть и не лишала сна. В годы предшествия моей жизни он, похоже, положил себе отцовскую за образец, а крушение лишило ориентира, гордость уступила место горечи, но и та миновала, как любая молодость. Теперь предстояло сквитаться, и дядя был рад всеоружию.
Когда все это стряслось? Или, скорее, с кем? Я выхожу из промозглой палатки, кутаясь в куцый плащ. Земля обнажена и наспех обжита в прямоугольном периметре вала, а дальше темнеют холмы в обносках прежнего снега, и пейзаж подобен большой пегой собаке, которую мы, медленные металлические блохи, неутомимо топчем. Почтительно лязгая бронзой, приближается патруль — когорта дежурит, и мне протягивают список караульных с пометами проверки: М. Антоний Крисп, Г. Соссий Келер, Л. Валерий Феликс, А. Марий Клеменс, Кв. Кассий Дор и т. д. Пока все в порядке, но этой же ночью, когда последний мороз застеклит звезды в ручье, Клеменс, безусый новобранец из Коринфа, уснет на посту. Наутро я приведу в действие параграф устава, кентурион выберет меч поточнее, и Клеменс, в пароксизме позднего и ненужного мужества, уснет снова, теперь уже беспробудно. Когда я впервые созерцал стройный мрамор метрополии, он, наверное, барахтался с соплеменными карапузами в пыли греческой улицы или еще пускал пузыри в лицо восхищенной мамаше, а вещая смерть аккуратно прокладывала оба наши маршрута к пересечению в заведомой точке, откуда продолжится только один. Мы стоим посреди тесного неба на влажном лагерном плацу, еще не застигнутые этим внезапным будущим. Где же это? Это в Германии, в Норике, в Паннонии, на мглистых подступах к ледяной Армении. Патруль салютует; я возвращаюсь в палатку, ощипываю коптящий фитиль и беру со стола медленный дневник неизвестного — продолжить от своего нынешнего лица.
Поведай первую осень в Риме, расскажи ощупь Сервиевой стены, нигде не берущей начала, стекающей, словно путеводный вой возницы, с отлогое северного холма к тройственной святыне, где год от года, с тех пор, как и прежде, восходит для жертвы ублажитель с белоснежной спутницей, взора которой тщетно ищет осужденный. Откуда я щурюсь, ты уже почти разминулся с собственным взглядом, вставлен заподлицо в одушевленную тесноту подобных, но золотая жатва воз- духа, навсегда устлавшая диафрагму, торопит изнутри зрачки и обводит в толпе зубчатым светом. Земля уже тяжела своей львиной колеснице, желтые лапы бестий вязнут в песке, а взъерошенное пастушье светило с жезлом и флейтой удаляется в танце к низинам зимы, к регулярной гибели. Что ж, нам, пожалуй, рано в ту сторону; мы еще успеем коснуться губами невозвратного зеркала. Ты отлип от плаценты детства, возник из певчей пучины случая, и быстрые вены страны собираются в сердце — не уличить, откуда течет отчая кровь. Вспомни взаимно и обо мне с проблеском первого завтра, ибо это я отсюда тебе отец и прочая родня. Завтра — древние Иды игр, проводы Марса, торжество и жертва Октябрьского Коня.