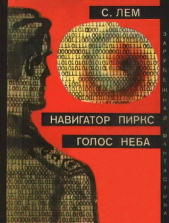Просто голос (СИ)

Просто голос (СИ) читать книгу онлайн
«Просто голос» — лирико-философская поэма в прозе, органично соединяющая в себе, казалось бы, несоединимое: умудренного опытом повествователя и одержимого жаждой познания героя, до мельчайших подробностей выверенные детали античного быта и современный психологизм, подлинно провинциальную непосредственность и вселенскую тоску по культуре. Эта книга, тончайшая ткань которой сплетена из вымысла и были, написана сочным, метафоричным языком и представляет собой апологию высокого одиночества человека в изменяющемся мире.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наутро в атрии забулькал робкий говор, вороной привратник сортировал гостей. Он делал это наизусть, и тех, кто хитрил юркнуть не по рангу, маскируя ветхость визитного платья, выдворял за порог поименно. Вергиний пропыхтел к выходу, коротко узнавая избранных, хоть и не вполне верно, как я понимал по некоторым вытянутым лицам; его кинулись громоздить в носилки, причем кое-кто из вытолкнутых, норовя наверстать, льстиво подставлял руки, и рабы, разнимая свалку, отвесили квиритам пару решительных оплеух. «Ну как, я уже сижу?» — поинтересовался сверху объект заботы, и когда свита прозвучала утвердительно, дал мне усталый знак вскарабкаться рядом. Я взмыл над головами, как короткая песня, и расположился у колен божества.
Толпа текла с Квиринала все медленнее, густеющим гипсом, с каждым кварталом мы вбирали слева бурный приток, отчего внизу теснее смыкались многоцветные плечи, и только медная глотка «коренника» Реститута продувала в процессии моментальные расселины для надобностей сановной навигации. Не- расторопных распихивали шестами, но лишь редкие обижались, потому что было жаль праздника, а наглядные доблести гужевых галатов не сулили разговора на равных. Я парил над площадями, как новорожденный месяц, тщеславясь впервые отраженным достоинством, пока основной светоч, чьи отечные колени уминали мне спину, рассылал поцелуи таким же ближним галерам, бороздящим глазастые волны. Кого послабее справа сносило вниз, где вчера я разочарованно уткнулся в тарпейское подножие, а над зеленью в спелых гроздьях осенних мальчишек улыбались белозубые портики, увенчанные рыжим черепичным убором, словно подчеркивали крепнущее родство. Ближние лица освещала короткая радость, плотное счастье сборища, которому еще не бросили кость состязания, и даже наша льстивая стая, временно остепенив корысть, топорщила золотушные шеи к святилищу Сатурна в мраморном оперении, запечатленному из-за плеча указательным окороком Вергиния — сапфир в перстне загромоздил полнеба.
Над головами, как выпрямленная пружина, прожужжал голос бронзы — к рострам спустились Салии. Толпа налегла на локти, ее совместный рык почтительно упал до шепота, до шторма в исхлестанной листве, потому что тише она не умела. Тише — это уже ужас, а восхищение и любопытство требуют степени шума, хотя бы шороха тысяч пар глаз, вращаемых к точке общего внимания. Моя нелюбовь к людным сборищам странным образом сказывается на воспоминаниях: я вижу всех этих праздных и празднующих не изнутри, не из улья улицы, бессильной разродиться всем громким роем на мозаичный мрамор площади, а словно сверху, с высот Яникула, откуда назавтра глазами повторю пройденное. Время дарует власть над прошлым пространством, и взгляд уже не стиснут слизью орбит, он отпущен в устье похода и там, в сонме удостоенных, созерцает проводы бога на зимний покой, после жаркой жатвы оружия. Новая дробь дротиков о священные Ромуловы щиты — и танцоры грузно взмывают в воздух. Их торжественные одежды взъерошены ветром, как пурпурное оперение, островерхие шапки подобны поднятым клювам утоляющих жажду. На какое-то судорожное мгновение они зависают над фором, как бы мешкают продолжить взлет к золотому фризу храма, но проливаются наземь сгустками предстоящей крови, и толпу накрывает металлический лист военной музыки.
Футах в двухстах от фора, куда мы не добрались по причине давки, выбрав окольный крюк к Фламинию, а Салии так и остались летучими черными червяками на горизонте, мускулистый прибой выплеснул нас на камни торговой галереи, и пока Реститут, при вялом содействии свитской бестолочи, пробовал возобновить плавание, я озирал из-под полога неведомый берег. Лавки, ввиду неурочного дня, были сплошь забраны расписными жалюзи, но в одну дверь была открыта, и проникший с воздухом солнечный побег выдвигал обитателей из темного объема, как фреску без прописи фона. Спиной ко мне, в двойном обрамлении двери и арки с колоннами, стояла женщина с неизвестным лицом, а перед ней на стойке сидела девочка в желтой тунике, с такой же желтой звездочкой астры в аккуратно убранных смоляных кудрях. Ее черты, на мой кель-тиберский вкус, были чуть переперчены Востоком: резкие дуги бровей, почти сомкнутые на переносице, ночные зрачки без радужной вышивки, осторожная тень над губами. Она была хороша, но не как иные из нас, а будто что-то рассказанное или спетое, одна из детских дев в награду за ратные подвиги. Женщина бережно трогала плечо дочери, поправляла одежду или снимала безвредную соринку и что-то часто говорила; неразборчивый голос иногда вздрагивал, словно это был смех, словно плач, или просто она говорила на чужом языке, как раньше другая — со мной. Девочка болтала ногами, облизывала стиснутую в кулаке коврижку и держалась как подобает ребенку, но торжественный не по росту взгляд светился тайной, вестью забытых за морем уз, которым подхваченный человеческим ветром уже не причастен. Я молча простился, отплыл в лоскутную толпу и стал торопливо и жадно жить, прозревая, что мы рождены на время и что секрет у сборища общий, не отмахнуться: нас больше никогда не будет.
Пристальное острие астры, осенняя синица в окне, детство Клеменса на мелкие деньги медника — жизнь сопрягает осколки без продолжения, чтобы уверенней себе казаться, эфесский пожар из вечерней россыпи светляков. Но нигде не горит стремглав, а только длинно тлеет; нет света, кроме одной памяти, и надо вспоминать не иначе, чем если бы повествуемое несомненно существовало.
За полдневным перевалом воздух не по сезону вскипел, а полога не предусмотрели — он, видимо, давно пылился плотной скаткой на складе. Вергиний выудил из подола шелковый платок и пустился утирать шею, украдкой загребая и под мокрую ермолку парика. В сенаторских рядах кругом сидела ровня, а кое-кто и с заметным перевесом, потому что в курии мой родич не первенствовал, и ему приходилось вовсю навострять слух по ветру авторитета, мобилизуя меня в посредники. «За Паллом следи, он в чудной форме нынче», — обернулся снизу сухощавый в бисерной лысине и ткнул пальцем в долженствующие ворота. «Кого?» — усомнился Вергиний. «За Паллом!» — сказал я, артикулируя до спазма и повторил указующий жест. «Неужели?» — вежливо изумился дядя осведомленности собеседника, но тот, не дождавшись эффекта, уже упустил нить разговора и поправлял под собой одежду, облепившую спелые ягодицы.
Вергиний крякнул и тайком развел руками, словно сетуя на тщетно оказанное внимание. Реститут перегнулся через массивного шурина ошуюю и снял с хозяйского носа мутную каплю — жара продолжала свою работу, — а я линовал глазами гулкую впадину, полную толпы, которой хватило бы населить три Тарракона. В дальнем витке это были только точки, желтые, лиловые и зеленые пузырьки разума, иные состояли в родстве и разных связях, хмурились, острили, оказывали покровительство или прибегали к нему. Вся прорва жизни теснилась в уголке глаза, и веко, обрушившись, могло прищемить сотни. Может быть, там, среди мелко кишащих, уже заводились друзья и враги — если взгромоздить ипподром на торец, я был им птицей. Ближние интриговали меньше, потому что походили на прежних, — им я вменял в вину невнятность говора и отсутствие интереса к приезжему, словно скамья подо мной пустовала. Проходившая сзади женщина оступилась и прижалась горячей голенью; она не отошла бы так невнимательно, если бы понимала всю доблесть и глубину духа, но и ей самой не потрудились придумать имени, и приходится помнить ее всегда без имени и даже торса. Еще пожалеет, прослышав о неминуемых подвигах. Внизу служители окатывали из ведер ржавую от зноя дорожку, но даже вода выбивала клубы пыли. В проходе сундучок сосисочника уже распространял аппетитное облако.
На мгновение непрерывный вопль, издаваемый этим разверстым зевом земли, взволнованно запнулся, а затем покатился вновь волнами вышколенного ликования. Все сорвались с мест и устремили взоры прямо поверх меня. Вергиний, правда пособляемый под локоть шурином Сульпикианом, вскочил на зависть резво, будто проглотил пружину, сделал мне бесподобное лицо, воздев былые брови, и все мы преданно вперились вверх. Там, в закрытой ложе, убранной пурпурной и белой с золотом тканью, стоял хилый старичок в громоздком зимнем плаще и нахлобученной на уши шляпе (полагался венок, но здоровье роднее). Его мелкие черты ускользали от взгляда даже с нашей короткой дистанции, лишь задранный острый подбородок выдавал отсутствие зубов. Старичок рассеянно пожевал, что-то сообщил соседней немолодой даме в осколках холодной красоты — неуместно наклонившись, хотя она была на полголовы выше, — и приветственно извлек из складок сухую лапку. Постояв так пару мгновений, он уронил через плечо неслышное слово, и от резкой тени задника отделился третий, рослый и простоволосый, хотя волос оставалось мало, дорожа неохотно дарованной новой милостью, терпеливый соучастник власти. Я стоял в тридцати шагах от центра вселенной, на гребне многотысячного крика, я тоже, наверное, кричал, но внутри не было ни звука. Мне было беспрекословно задано, в ушах звенел приказ, но я был только частью грозного механизма, предназначенной к повиновению и неспособной к произвольному поступку, как не раздробить крепостной стены вислому тросу тарана. Покорствуя запечатленному авторитету, я содрогался от стиснутого в сердце двойного бунта, от сладости единоличной славы, так просто вообразимой с тридцати шагов, даже вертикальных. Отец — кто мне теперь отец! Разве я не один навсегда в надсадно ликующей толпе неизвестных? Старичок поперхнулся, раскашлялся и жалобно присел у перил. Угодливая тень протянула пухлый платок, и немощного тщательно укутали, спеленали. Супруга опустилась рядом на скамью, Тибе-рий резким жестом дал отбой благоговению. Провыла труба, нарядный прайтор уронил тряпку; дорожка дробно застучала и легла под истекающие солнцем спицы. Меня тоже принесло не с Каспия, этот род римского досуга не был мне в новинку, но убранство колесниц и удалые позы наездников исступляли, поднимали в верхний регистр рева, который не преминул взвиться и больше не молк до финиша. Конская сбруя, вымоченная в радуге, играла россыпью стекляшек и блях; гирлянды георгин, напоровшись на острый воздух, увядали под копытами. Выскобленные до блеска лошади мутнели от первого пота — одной, словно воину, эти бега сулили роковую кровопролитную славу.