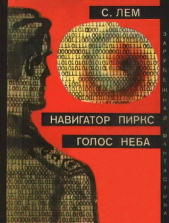Просто голос (СИ)

Просто голос (СИ) читать книгу онлайн
«Просто голос» — лирико-философская поэма в прозе, органично соединяющая в себе, казалось бы, несоединимое: умудренного опытом повествователя и одержимого жаждой познания героя, до мельчайших подробностей выверенные детали античного быта и современный психологизм, подлинно провинциальную непосредственность и вселенскую тоску по культуре. Эта книга, тончайшая ткань которой сплетена из вымысла и были, написана сочным, метафоричным языком и представляет собой апологию высокого одиночества человека в изменяющемся мире.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пейзаж оживляла внезапная дружба Секста — он дарил безвозмездно, потому что, взрослый, не норовил им казаться, и я отвечал неизвестной искренностью, забыв натугу езды. Теперь видно, какая это была, в сущности, перестрелка промахов: у него семья и дом, у меня невнятные надежды — что предложит факт воображению? Не диво, что кануло все, кроме одной странной притчи о храме Юппитера Мута на каком-то луситанском острове. Это щедрое божество не отказывало ни в единой просьбе, и толпа ходатаев не скудела; но просили не боги, а люди, и куда чаще, чем милости себе, они добивались напасти соседу. Семь дней уступал Юппитер истребительной глупости смертных, а затем затмевался стыдом и гневом и семьдесят лет оставался глух к самым исступленным мольбам, но милость брала верх, и все повторялось. Притом же это была, как настаивал Секст, сущая правда, он сам знал одного из ходоков — лет пятьдесят назад тот буквально на сутки разминулся со своим счастьем и с тех пор жил железным аскетом в надежде дождаться компенсации.
Не приглядев ночлега поточнее, мы располагались в придорожной охотничьей хижине, круглой, как храм Весты, наполовину упрятанной в землю от неизбежной жары. На плитчатом очаге пыхтела бобовая каша, стлался смолистый кипарисовый дым, но ели на дворе, торопясь надышаться свежим вечером, в слабеющем звоне ос, лицом в пурпурный занавес запада. Там же с отцовского позволения я и уснул со словоохотливым иноязычным конвоем, под россыпью звезд, сочащихся во влажные щели век. Утро прослезилось весенней росой, и я выполз из-под плаща мокрее выдры.
На третий день пути, приотстав от тестя, отец указал на широкий серый холм со срезанным верхом: «Нумантия».
Время стреноживает потуги воссоздать кругозор недоросля в положенных рубежах. Уже, кажется, приходилось излагать подобающие извинения, и теперь пора категорически брать их обратно. Это недодуманное «я», пузырями закваски возносящее тесто текста: атрибут ли оно предмета приключений в его третьем конопатом лице, или же повествователя, предателя бумаге — то есть меня в родительном падеже притяжания? Нет, невиновны оба: это мгновение бывший, выводя слово, и больше не ставший. Жить не беда, как ясно и сове без просвета, но не у себя на виду, не под надзором вчерашнего будущего.
Так вот наше место встречи, пепелище соития, приблизительно прошептал я в уме. Невидимый город при- давила плита миража, ее тусклые сады и фасады лишь обостряли угадываемое, а змея из глины и гальки, оглавленная рухнувшими башнями, еще вовсю опоясывала склон. Возбудившись внезапной наглядностью сюжета прежних игр, я ослабил поводья и поверг в замешательство задних мулов, но Секст вполголоса скомандовал Кулхасу и выправил колонну.
Двадцать лет половина моей родословной позорила здесь другую, лучше обученную удачам. От моральной гибели Нобилиора, затоптанного вместе с Масиниссой собственными слонами, до изнасилованной совести Остилия, который сдал армию осажденным и возобновил забытый договор, — они высились на своем славном холме несокрушимо, пока далекий Капитолий сводило сердитой судорогой. Но прибыл разоритель гнезд, африканский триумфатор с премудрой свитой, и стянул город железным обручем, даже реку ощетинил жабрами ножей, отвадил все дышащее и съедобное, и тогда они впали в людоедство. Кого же выбрали и обрекли котлу первым? Добровольцев? Я обдумывал этот кулинарный сюжет, как житейскую прозу, без моральной рефлексии, как ситуацию, в какой легко оказаться любому. Нет, скорее слабейших, помеху самоубийственной гордыне — женщин и детей, которых варвары всегда охотнее пускают под нож, чем под иго. Обглодать до хрящиков руку, что еще вчера доверчиво тебя обнимала, и — на бруствер, предаваться сытому мужеству. Не с руки, скаламбурю, справляться у Секста, кто в точности были эти ареваки, но и ты — побочный потомок, и сны тех съеденных будоражат кошмарами ночной желудок.
В ту же пору противоположный, уже непосредственный предок, корень рода и оригинал восковой маски, обонял из-за надолба прелести супа, с которым лет через сто с лишним предстояло породниться. Что чувствовал тогда наш просвещенный сокрушитель, командир девяти Камен, кутаясь в плотный плащ отчей доблести перед обреченным ульем на холме, россыпью лачуг из необожженного кирпича, которому он устроил-таки обжиг? Эта Нумантия была ему от силы досадным утесом по курсу магистрали, он корчевал и покруче, но тогда, в зареве Карфагена, он прорицал сквозь слезы обязательному Полибию, что и Риму возможен тот же огненный конец, а здесь сделал дело, собрал инструменты и вышел. Чтобы не сбылось, он просто убрал ненужное с дороги, Рим выстоял и, вопреки снам, останется вечно, а нам нет иного выбора, кроме благодарности. Человек велит истории, и она повинуется; он мечет в золу мозговую косточку побежденного и предстает восторгу толп, как мельком отмеченный мечеглот на площади в Кайсаравгусте, извергатель небольшого огня.
В Клунии нас встречали стечением народа у ворот — дед, видимо, считался у них не последним человеком, а приезд отца вконец распалил голодное любопытство жителей. Застигнутые вестью, они выбежали как были: кузнец в кожаном фартуке, чумазые угольщики, гончары и непременный цирюльник с прибором пропитания в кулаке, держа за полу ошалевшего от боли, чтобы не испарился недобритым. Такое внимание обязывало, и я, умаянный жесткой ездой, все же мобилизовал позу и придал лицу выражение авторитета, подставляясь податливым взглядам. Секст, уже кое-что во мне понимавший, искоса усмехнулся, но я старательно упустил из виду.
Вопреки смутным ожиданиям, здешний народ мало отличался от известного прежде: та же на живую нитку одежонка, те же наскоро скорченные рожи. Пристальному взгляду, наверное, открылось бы больше, но я был слишком увлечен собой. В целом смахивало, что дядя сколотил себе дружину ряженых, и я тоже скосил усмешку.
Дом деда, приземистый и рыжий, но протяженностью обличавший достаток, стоял, если позволено так выразиться о горизонтальном, сразу за фором. Мы пересекли узкую, неряшливо вымощенную площадь — но бокам, без всякой колоннады, зияли скважины ланок, куда рассосались обрывки нашей процессии, а весь торец занимал новенький храм, под мрамор, с несуразной челюстью портика, над которым расписной с золотом фронтон изобличал кисть местного самородка. По сторонам на тяжелых постаментах пучились бычьи истуканы из темного камня, очевидные пережитки прежнего. Дом тылом примыкал к храму и сообщался с ним, что, как я сообразил впоследствии, посходило к палатинскому образцу, водившему такую же дружбу с Аполлоном. Табличка, на которую с достоинством указал дед, поясняла, что этот храм Эркула подарил городу Лукий Бригаик. Он же, как я вскоре, убитый стыдом, проведал, был автором росписи.
Дверь в атрий отворилась непременно внутрь, словно в святыню. У входа, деликатно покашливая в кулаки, топтались три опрятных молодца, то ли приодетые к приезду слуги, то ли родственники второго при-зыва, которых преминули представить. Пыльный мальчишка мучил палочкой черепаху, запертую на все засовы; Лукий сгреб его под локти и взгромоздил из-вестным жестом в седло, чему я тоже сконфузился. Вообще, к концу экспедиции я стал сникать и киснуть, польза кругосветного усердия истекла вместе с расстоянием. Теперь хотелось домой, где жизнь шла без подсказки, как простое время, а здесь следовало длиться усилием воли. Мальчишка приходился мне дядей — сын Лукия от второго брака, скрасившего скорбь по усопшей бабушке. В безотчетном поиске опоры я полагал встретить здесь теток, годы назад гостивших у матери и потому бывших величиной в какой-то мере известной, от которой проще вести отсчет. Но их, конечно, не оказалось, давно отосланных в дальнее замужество. Зарево приезда, блеснувшее конному с холмов, вблизи таяло бликами на воде, подергивалось тусклой опаской; любопытство улицы, которому я только что жадно подставлялся, теперь стекало слизью с лопаток, и самая бережная дружба давала предлог праздному подозрению. Слоняясь в бессолнечном зале, где пустовало и пахло затхлой жизнью, я ненавидел редкие мертвые предметы, везде обличал подмену и сглаз. «Кориолан в опале», додумался входя отец. «Марш умываться!»