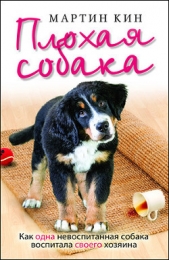Где собака зарыта

Где собака зарыта читать книгу онлайн
Адам Ведеманн — поэт и прозаик, чья оригинальная жизненная и творческая философия делает его одним из наиболее заметных молодых авторов Польши.
В своем цикле рассказов он обращается к самым прозаическим подробностям жизни (потому и причислен критикой к «баналистам»), но в то же время легко и ненавязчиво затрагивает сложнейшие темы метафизического и философского свойства. Литератор новой генерации, он пишет беспафосно, как бы «между прочим», играя в своего рода игру: повсюду оставляет загадки и не подсказывает ответы на них.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Адам Ведеманн
Где собака зарыта
Случаи из жизни случайной субъективности
В наше время стало трудно рассказать историю с начала до конца, потому что мы толком не знаем, где начало, а где конец. У рассказчика Адама Ведеманна в этом отношении есть очень хороший прием. Начинает в каком-нибудь поезде или автобусе, иногда на велосипеде, а заканчивает после того, как приедет куда-нибудь, причем не обязательно, что на том же самом транспорте, на котором начал путь.
Впрочем, и в так называемой середине мы сталкиваемся со многими неудобствами. Нас волнует, как говорит Ведеманн в «пяти коротких вещицах» сборника «Где собака зарыта» (Сэнк Пес Брэв. Варшава, 1998) [1], огромная потребность «рассказать наконец все себе самому по порядку». Каждое слово здесь на своем месте: «наконец», «все», «себе», «по порядку». И оказывается, что эта простая задача невыполнима. О себе самой могу сказать, что, когда я собираюсь внутри себя выстроить некое повествование, наверняка быстро засну, измотанная постоянными уходами в какие-то боковые ответвления и невозможностью удержаться «в главном русле». Я вынуждена также признать, что много раз мне случалось читать разнообразные не удовлетворяющие меня пересказы «Контракта художника» Питера Гринуэя и также многократно обращаться к моей — известной знанием тысячи и одной фабулы — приятельнице, пани профессор Марии Жмигродской, с просьбой рассказать мне, о чем этот фильм, но все как-то не получалось. Мне тогда казалось, что помехой были некие внешние причины: то вдруг звонил телефон, или кто-то стучал в дверь, или надо было прервать рассказ ради чего-то срочного. После чтения Ведеманна я вижу, что дело тут более глубокое, внутреннее, ибо, когда мы пытаемся пересказать собственную или чужую жизнь, «события начинают коварно выказывать какие-то фальшивые личины или прятаться по незадействованным частям мозга, и разве что гипнозом каким можно их оттуда выманить». Далее автор строит невыполнимые планы привлечения гипнотизеров для добычи событий из этих закрытых шахт.
У Ведеманна появляется не только «потрясающее богатство абсолютно самых важных вещей», но и «бардак», «помойка» и тому подобное. Предотвратить окружающий хаос должно соединение событий в цепочки, принудительное сцепление, комбинирование смыслов последующих событий, хотя, как пишет автор, «порой даже невооруженным глазом видно, что какие-то звенья, насильно притянутые друг к другу и связанные проволокой или просто ниткой, неизбежно разорвутся при очередном рывке нашего поглупевшего существования». Гомбрович подошел к аналогичной дилемме в «Космосе» очень драматично: «Не получится у меня рассказать это… эту историю… потому что я рассказываю ex post. […] А как рассказывать не ex post! Что же, значит, ничто никогда нельзя адекватно выразить, передать в его анонимном становлении, никто никогда не сумеет передать клокотание рождающегося момента, как оно есть на самом деле, и мы, рожденные из хаоса, никогда не сможем с ним соприкоснуться, только взглянем, как уж под взглядом рождается порядок… и форма». В «Космосе» из этой навязчивой идеи возникает «усиленное ощущение знаковости мира, видение во всем преднамеренного двуличия людей и вещей» (З. Лапиньский).
Иначе справляется с этой задачей Ведеманн. Если у него не получается — по выявленным выше причинам — рассказать какую-либо историю, ведь «всегда к ней что-нибудь нового да и припомнится, так, как будто ее вообще пока не рассказывали», тогда из нее надо сделать «некую Очень Важную Историю», и тогда она внутри рассказчика скукожится, захиреет и испустит дух. С помощью придания смысла достигается лишение значения: назойливые «высшие смыслы» перестанут приставать.
Возвращение приватности, достигаемое с помощью раскрытия субъективного генезиса событий, происходящих только в поле опыта повествующего «я», имеет свою цену. Ею является сопряжение со случайностью. Программная «случайность» Рорти подразумевает необходимость смириться с фактом собственной конечности. Нет никакого «постижения мира» в платоновском смысле (постижения вне времени, в рамках некоей постоянной неизменности Идеи). Для Делёза ницшеанские сумерки богов — это осознание того, что не существует ни оригинала, ни копии, ни привилегированной точки зрения, придающей Смысл, нет возможной иерархии. Остается беспрестанно обновляемое описание действительности собственными, исключительно собственными словами. Ни одно из описаний не может претендовать на абсолютную истинность, отсюда скрытая в нем внутренняя ирония. В тексте «Сэнк Пес Брэв — автореферат» («Ех Libris», специальное издание от декабря 1999) Ведеманн подчеркивает, что у него все время речь идет о непонимании, которое является «неизбежным следствием всех попыток общения».
Сам Гомбрович хотел назвать «Космос» «романом о становлении действительности». В «Дневнике» он написал в связи с этим: «Какие же [бывают] приключения, авантюры с действительностью, когда она пробивается из тумана». Он называл «интеллектуальными обочинами» проступающие в это время «аналогии, противопоставления, симметрии». Его больше тянуло к другому: «Возникновение боковых ответвлений… темных ям… заторов… преграды… омуты… повороты». В первом варианте начала «Космоса», появившегося на страницах парижской «Культуры» в 1962 году, Гомбрович писал: «за первой волной шли другие, бесконечность вещей и фактов, обступающих со всех сторон и отвлекающих, с которыми я не мог справиться». Несколько раз он возвращался к знаменательному определению: «жужжащий рой явлений», «своеобразное созвучие, жужжание роя». Может быть, догадывается Гомбрович, «в праначале времени было двукратное восприятие. Оно определяло направление в хаосе и являлось началом гармонии». Двукратное восприятие, поскольку происходило возвращение к некоему замеченному явлению, которое благодаря этому начинает выделяться и становится навязчивой идеей. Может быть, сама действительность «по сути своей навязчива, маниакальна»? В лоне хаоса события каким-то образом разрастаются, впадают в резонанс друг с другом и вступают в связь. «Жужжание роя» является здесь удобной метафорой. Бялошевский заботился о том, чтобы переписать «с фактичности на выразительность».
В книге «Где собака зарыта» Ведеманн отмечает несколько странных закономерностей в стремлении неуклюже упорядочивать события. Например, упорное внушение себе предчувствия, что сейчас должен кто-то встретиться, и действительно, этот некто встречается, впрочем… «может, это предчувствие и существует, но как-то трудно было бы его отделить от обычных мыслей». Или молитвы, так называемые моления о ниспослании, исполняются как собственная противоположность, но этого не замечают, коль скоро ум «имеет тенденцию выискивать как можно большее количество исполнений». И так далее и тому подобное. В помещенном в книге Ведеманна «Вездесущность порядка» (Краков, 1997) рассказе под названием «Святой Витольд, молись за нас» герой из чистой злости (потому что перед этим он был захвачен абсолютом музыки Лютославского) говорит о творчестве своего идола следующее: «В результате мы окажемся подвешенными в этой всеобщей красоте как в безвоздушном пространстве». Мариан Сталя удачно подметил здесь отступление от способа мышления, «явно апеллирующего к классической метафизике платоновского типа», или, может быть, бегство «от устойчивых форм, от самой идеи устойчивости и неизменности» (Неустойчивые формы существования // Тыгодник повшехны. 1998. № 12).
Истинной темой прозы Ведеманна являются случаи из жизни случайной субъективности. Они часто происходят в пространстве, особым образом выстроенном с помощью литературных «кубиков», которые Ведеманн использует в собственных целях.
С первого же рассказа в книге в глаза бросается «мистический опыт». Героиня «Элиады, бергмановского рассказа» (что это, ассоциация уменьшительного имени героини — Эля — с Элиаде и «Илиадой»?), «сокрытая и недосягаемая в кабинке» туалета в кафе, переживает кризис ценностей, за которым следует мистический опыт. «Созерцательное вглядывание» в тусклый свет, отражающийся в металлической ручке уборной, приводит к радостному растворению в вечности. Здесь-то, чем-то напоминая античных богов, пани Эльжбете является Господь Бог собственной персоной — «она видела Его насквозь, во всей Его голой, с позволения сказать, божественности». Вот оно что: это Бог оголен, а не мистик. Мистический опыт сопряжен также и со сном, описанным в «традиционном рассказе», названном «Резкое ухудшение слуха». Рассказчик, хоть он все время находится на борту попавшего в шторм корвета, одновременно своим взором поднимается все выше и все большее водное пространство охватывает своим взглядом сверху. Он находится на «жуткой границе» между пребыванием на борту парусника и рассматриванием его с большой высоты. Это все опыт чуждости/отчуждения, окрашенный, разумеется, соответствующей иронией, которая часто прибегает к внедренным в нашу литературу Бялошевским средствам столкновения высокого с обыденным. Особенно это заметно в многочисленных описаниях прослушивания музыки, пересыпанных юмористическими эпизодами, представляющими, например, стук не со стороны соседки слева, «ведущей с нами беспрестанные музыкальные войны», а со стороны двери, за которой на самом деле стоит «Ярекова баба — Малгоська. Ну я начал вроде как оправдываться, что, дескать, кто-то раньше гвоздь забивал и поэтому я не был до конца уверен».