Окна в плитняковой стене
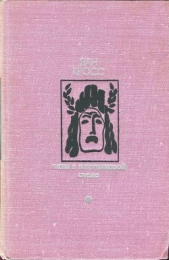
Окна в плитняковой стене читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вдруг я услышал странный короткий вздох. И странный скрежет. Скрежет продолжался, пока я оборачивался.
Да, я повторяю: предчувствие существует. Больше того: возможно даже предвидение всех обстоятельств события, точное и визуально правильное. Здесь, в кабинете отца, я увидел теперь воочию то, что мерещилось мне два года тому назад наверху, в мансарде. На отцовском письменном столе горела его керосиновая лампа с зеленым абажуром. Отец грудью упал на правый конец стола лицом вниз. Он как бы старался прикрыть собою правый верхний ящик, будто пытаясь защитить его от кого-то. Но руки ему не повиновались. Его сильные ладони соскользнули со стола и безвольно повисли вдоль тела. Его широкая спина в стеганой домашней куртке из серого шелка и круглый кряжистый затылок смещались, сначала медленно, а потом все быстрее, по мере того, как ослабевали ноги и тело оседало на пол. Никакая потеря сознания не спасла меня от лицезрения того, как отец боком сполз на пол и остался лежать недвижим. И тут прекратился странный скрежет, которым сопровождалось его падение.
И я понял, это была чернильница, которую он тащил за собой по кромке настольного стекла, секунду она стояла, сохраняя равновесие на самом краю, и затем упала на пол рядом с отцом. Черно-синий чернильный подтек сверкал на его лбу и правой щеке. Звук разбившейся чернильницы прервал мой катарсис. Я больше уже не был судьей. Я снова был сыном. Врачом. Прежде всего врачом. Я не думаю, что Вы в состоянии себе представить, какое безумное облегчение я при этом ощутил. Даже в то страшное мгновение.
Я расстегнул ворот его рубашки. Он был без сознания. Пульс — около ста тридцати ударов. Он был тяжелым мужчиной, а я никогда не был сильным… Но его нельзя было резко двигать. Я побежал во флигель и привел себе в помощь дворника. Мы положили отца на здесь же стоявшую софу. Я уложил его затылок на прохладную кожаную опору. Я положил ему на голову холодное мокрое полотенце. Я пытался смыть с его лица чернила и послал горничную за доктором Рейером. Я сказал:
— Беги! И бегом оба обратно. Не дожидаясь извозчика, это долго!
Когда горничная вышла, я увидел на столе связку расписок. Они лежали нетронутые, как я их бросил отцу. При броске связка раскрылась. Теперь горстка квитанций лежала на столе на белом листе бумаги, уголок, где они были сшиты, торчал кверху, как острый белый холмик, как будто бумагу снизу чем-то проткнули и она взгорбилась: как удар финским ножом — подумалось мне — снизу вверх, сквозь стол, сквозь один, другой страшный, но суетный мир, как прокол меча сквозь кулисы, Гамлет — Полоний — два короля — королева — кто есть кто? Я схватил расписки. Я срывал их по две, по три с нитки. Я стал их тут же, обжигая пальцы, жечь над настольной лампой с зеленым абажуром. Только когда половина уже сгорела, я заметил, что в комнате топилась печь, остальные я бросил в топку. Потом распахнул окна, чтобы не было запаха горелой бумаги.
— Очень хорошо, что открыли окна. Ему нужна прохлада, — сказал доктор Рейер десять минут спустя.
Диагноз, как Вы знаете, был apoplexia cerebri [142]. Правая рука осталась парализованной. Других значительных физических нарушений у него не было. После того как Хейнрих и Хирш [143] его тщательно лечили, и я делал все, что, по крайней мере, было в моих силах. Но десять последующих лет он был добродушное, несчастное большое дитя с седой головой. Умственно он был мертв. Это известно. А я… все последующие пятьдесят лет — отцеубийца. Нет, нет, не возражайте мне. Это же не только наивно, но и просто глупо. Вы же не можете допустить, что правы Вы, а не я, если Вы с этой мыслью имели дело пять секунд, а я пятьдесят лет. Я знаю: юридически то, что я говорю — нонсенс, хотя бы уже в силу того, что отец наш жил еще десять лет, не так ли. Хотя самим собою он уже не был. Он ничего не помнил, ничего не знал — ни о своей работе, ни о своей вине, ни о своей правоте. С юридической точки зрения это не имеет значения. Но от этого мне не легче. Ни одно уголовное право не квалифицирует как убийство то, что я совершил там, в кабинете, сорок девять лет назад, первого ноября, вечером. Это мне известно. Но от этого — не легче. Де-факто — мы знаем: если кто-то нанес другому удар по голове, в обычном случае абсолютно не опасный, но который привел к смерти, потому что у пострадавшего на месте удара была трепанирована черепная кость, о чем наносившему удар не было известно, то обвинение в убийстве не имеет места. Это совершенно понятно. Но я ведь знал его больное место. И намеренно именно в это место нанес удар. Такой силы, на какую был способен мой эгоизм. Да-да-да-а. Я все понимаю… Его вина, его преступление… идеалы… нужда обманутого народа в выдающихся людях… и правда — как единственная мера величия… Я все понимаю — но поймите же и меня!
Если я теперь пишу Вам:
Господин Пальм! Вы говорите даже о документах, которые будто бы подтверждают вину Янсена-отца. Но ведь этих документов на самом деле не существует…
Это правда, говорю Вам как перед господом богом, господин Пальм (сколько же лет Вам может быть? Еще тридцати нет, не правда ли? А мне семьдесят семь): я ведь собственными руками сжег их. И поймите… у меня остается лишь один путь в отношении своего отца, тот самый, который я избрал, у меня лишь один путь: что-нибудь сделать для того, чтобы в себе самом преодолеть раздвоение, о котором я говорил Вам… в себе самом воздвигнуть нечто такое, что простерлось бы через две обособленные плоскости моей жизни, что было бы возможно чем-то третьим… что оказалось бы как-то jenseits von Gut und Böse [144]… Дойти до конца.
И в заключение нашей мысленной беседы: Вы сами видите — на мою долю не выпадали встречи с героями. За исключением одного человека, который, может быть, был таким по своей природе, но соприкосновение с которым оказалось случайным. Помните, Йозеп Хурт, согласившись отдать мне расписки, сказал: «Хорошо. Тогда это решено». Я не спросил его, что он при этом думал. Через неделю я узнал. В Выруском уезде у него был брат, которому надлежало идти в армию на шесть или семь лет, так тогда служили. А у брата была невеста, было здоровье и т. д. Йозеп в то время размышлял, не пойти ли ему вместо брата. В царское время по закону военной службы это допускалось. На его туберкулез комиссия за взятку не обратила бы внимания. Совершенное мною хищение бумаг из доверенного ему архива укрепило его решение. Но, кстати сказать, ему не удалось спасти брата, который спустя год умер дома от несчастного случая… и Йозеп освободился от военной службы. А я боюсь… я боюсь, что мне так и не удастся спасти честь своего отца… Но сам я от чего-то освобождаюсь. Когда я снова пишу, когда я снова пишу:
Господин Пальм, я — ныне еще здравствующий сын И. В. Янсена, который гордится честным трудом своего отца на благо народа, сим выражаю всем клеветникам и хулителям моего отца свое глубочайшее презрение — сво-е глу-бо-чай-шее пре-зре-ние.
Точка. Подпись.
Слава богу…

ПОЯСНЕНИЯ,
без которых на этот раз действительно не обойтись
Койдула, Крейцвальд, Якобсон, Янсен (на всякий случай — в порядке алфавита, чтобы избежать порядка значимости) — четыре первые скрипки в большом оркестре пробуждения эстонского народа.
Янсена (1819–1890) принято называть отцом эстонской журналистики. Это происходит потому, что вслед за выходившими и быстро умиравшими эстонскими газетами Янсен основал и несколько десятилетий выпускал первую эстонскую газету, читавшуюся по всей стране. И еще больше потому, что он создал стиль публицистики своей эпохи. Ни до Янсена, ни после него мы не найдем стиля, который можно было бы сравнить с янсеновским, в силу того, что он до смешного полно отражал признаки времени и места, и одновременно в силу присущей ему исконно народной сочности.























