Окна в плитняковой стене
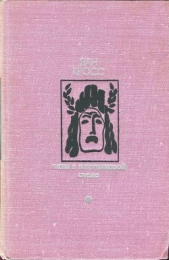
Окна в плитняковой стене читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Аплодисменты встречают приближение губернатора. Аплодисменты нарастают не сразу, но все же быстро и уверенно и победоносно охватывают весь стол. Какая это великолепная вещь — светская приспособляемость! Xa-xa-xa-xa! Мне приходит на память: в Пруссии, в Кенигсберге жил какой-то чудак [62] (вращаясь при дворе, всякого вздора наслушаешься), который, говорят, написал множество книг и по его вечерней прогулке жители города сверяли свои часы. Он будто бы сказал, что высшая степень приспособляемости и есть то, что отличает человека от животного… (А также в большинстве случаев, но не всегда, не всегда — офицера от солдата, это уже говорю я.) Аплодисменты стихают. Господин фон Курсель снова становится слышен. Ох, как молодо звучит его голос. Он представляет нас супругам ландратов, своей собственной супруге. И еще какой-то дюжине серьезных важных личностей. Это становится утомительно. Для батюшки и матушки наверняка еще больше, чем для меня. Но ведь я именно тот, кому надлежит их немножко расшевелить, а они именно те, кого следует расшевелить.
Ах, фаш син?
Наш сын, ага.
Wunderbar [63]…
Какой Held!
Чего? Ох, да он, когда еще гусей пасти ходил, ловкий был, ровно брючная пуговка.
Hochinteressant [64]…
Однако хватит.
Merci, Mesdames! Merci, Messieurs! Quelle délicatesse! O-là-là! [65]
Хватит. Мы садимся за стол. На почетное место, между Гротенхьельмом и предводителем. В брюхе у меня совершенно пусто. Признаюсь: у меня гудят колени, а немного повыше в ляжках приятная боль расслабленности после минувшего волнения и напряжения. Точно такая, какая бывает после рискованной конной атаки. За моей спиной и за спинами стариков начинают суетиться кельнеры из «Stadt Hamburg». Нам подают тосты с лососьей икрой, жаркое из оленины и тушеные в уксусе яблоки. Ну, это, конечно, не потемкинский ужин. Но все же неплохо. Весьма даже неплохо. Адъютант заботится о стариках. Я ведь уже сказал, что условился с ним. И что за два с половиной года сделал из него стоящего парня. Иногда это и из фон Толей можно сделать. Мы запиваем великолепным chambertin'ом. Не нужно беспокоиться, что батюшке оно слишком понравится. Кроме того, рядом с ним матушка. Видно, что он старается почувствовать себя человеком. Бедный старик, прости меня! Он достает свою трубочку, кисет с самосадом и огниво. Граф Штенбок поспешно предлагает ему сигару, думая, очевидно, пусть уж мужик курит в присутствии дам, только не чадит так ужасно, но он отрицательно качает головой и разжигает свою трубку. Ха-ха ха-ха-ха! Мне хочется похлопать его по плечу. Я оставляю его на попечение матушки, адъютанта и кашляющих ландратов. Я встаю и направляюсь к левому концу стола.
Быть может, мой триумф немного вскружил мне голову. Вполне может быть. Я выпил полтора стакана chambertin'a. Я никогда не пью больше. Я всю жизнь был совершенно трезвым. Все скоро уже пятьдесят лет. Не считая отдельных минут. Рядом со сладкой девочкой, ночью, в постели. Отдельные, редкие минуты. Но сейчас я совсем не уверен, что трезв. Потому что точно не знаю, чего я хочу. А господь так странно снисходит до меня и до моих неясных намерений. Мне даже как-то боязно хвататься за это снисхождение. И все-таки я за него хватаюсь. Хотя понимаю, что совсем неизвестно, к чему это приведет. Когда я иду к левому концу стола, я затылком чувствую направленные на меня взгляды половины сидящего за столом общества. Я вижу, что за столом сидит в прошлом мой однополчанин — ротмистр Карл Адольф фон Рамм. Веселый, ленивый веснушчатый падизеский Рамм. На спинке его стула висит знаменитая раммовская трость — позор и гордость рода Раммов (мне вдруг показалось, что это относится и ко многим другим), но еще того больше — их корысть. Та самая индийская бамбуковая трость, история которой здесь, в зале, никому не известна. Трость Петра Первого. Которой шестьдесят лет тому назад Петр Первый высек в Падизеском имении деда Карла фон Рамма — Рейнхольда. За что — об этом никогда не говорилось (да и смысла нет говорить, поскольку речь идет о царской порке). Трость, которой Петр, во всяком случае, так высек старого Рамма, что ему самому стало настолько не по себе, что, еще не опустив трость, Петр спросил, что он мог бы сделать для господина Рамма. И господин Рамм (опустившись, говорят, на правое колено) попросил эту трость себе в качестве прощального подарка. Порка и коленопреклонение, за счет которых Раммы вошли в число семей, пользующихся наибольшим доверием царского двора… Та самая трость. Я пожимаю Карлу руку. Ну, хороший спектакль ты нам сегодня устроил… Я снимаю трость со спинки его стула. Карл, я возьму ее ни пять минут. И сразу направляюсь к господину фон Розену.
Господин Розен неотступно следит за моим приближением. Теперь он встает. Не с тем достоинством, с каким встал Пугачев, когда я приходил к нему в подвал в Симбирском кремле. Рывком, испуганно. Кстати, почему он вообще-то пришел сегодня сюда? Приказали, как сказал Лууду? Глупости. Пригласили? Ну, хорошо. Но никто не мог его обязать. Он здесь добровольно. Может быть, он приехал, чтобы спастись от насмешек своего брата Андреаса, когда тот вернется из-за границы, — этого вечного брюзги: Ах, звали, но ты, известно, не посмел пойти! Может быть, он пришел для того, чтобы себе самому доказать, что капитан фон Розен не избегает встреч с генералом, которому он давал пинки? Потому что тот, кто был у него на побегушках, навсегда останется ниже его. Или, может быть, его заставило прийти слепое высокомерие? Во всяком случае, господин Иоахим фон Розен встает. Его длинное серое лошадиное лицо неподвижно. Так неподвижно, что я начинаю сомневаться, в самом ли деле он встал так растерянно, как мне вначале показалось. Не рано ли я обрадовался его растерянности? Я стою перед господином Розеном. В пятьдесят третьем, когда, приехав вместе с господами Андреасом и Иоахимом в Санкт-Петербург, я сбежал от них и оставил их без слуги, сам на полгода попал в цирк. Это до того, как завербоваться на прусскую войну. За полгода смышленый малый может в цирке такому выучиться, чего за тридцать лет не забудет. Я беру царскую палку за середину и держу ее плашмя. Я поднимаю палку на уровень лошадиного лица господина фон Розена. В тот миг, когда мне стало уже ясно, что я сделаю (хотя для чего — я и сам не знаю), — он протягивает мне руку:
Здравствуйте, господин генерал!
Нет! Большим пальцем руки я начинаю с такой быстротой вращать палку, что она только жужжит. Между нами, как стена, вдруг возник зримый, переливающийся стеклянный круг. Еще тогда, тридцать лет назад, Рудольфо признался, что этот простой номер мне удается лучше, чем ему самому. Трость жужжа вращается между мной и господином Розеном подобно крылу ветряной мельницы на горе в Мустъяла при сильном северном ветре с моря. И господин Розен стоит по ту сторону жужжащей преграды еще более серый, чем прежде. А я смеюсь. Хах-ха-ха ха-ха-ха! Садитесь, капитан. К чему стоять? Но господин Розен продолжает стоять. Бледный от гнева. Костлявый. Неуклюжий. Кривой. Жалкий провинциальный помещик. В плохо сшитом цивильном сюртуке, реверы которого он уже успел закапать. Я вижу, его скулы дергаются от злости. Но ему придется это проглотить. Затылком я чувствую, как за моей спиной клокочет злоба. На лицах, во взглядах, в позах. За случайными нейтральными фразами. Как шипящая черная волна во время северного шторма у обрыва в Мустъяла. Но ведь я здесь для того и нахожусь, чтобы эту злобу вызвать. Я здесь ради того, чтобы насладиться этой злобой. А теперь с меня хватит. Если бы я еще дольше стал смотреть на господина Розена, мне стало бы его жаль. Ха-ха-ха-ха. Я поворачиваюсь. Я вешаю царскую трость-розгу обратно на спину Карлова стула. Я возвращаюсь к батюшке и матушке, к губернатору и ландратам:























