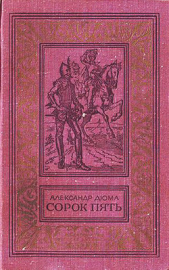Предпоследний возраст

Предпоследний возраст читать книгу онлайн
Повесть — внутренний монолог больного, приговоренного к смерти, смесь предоперационных ужасов, дальних воспоминаний и пронзительных раздумий о смысле прожитого.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
то, как это высокая, ужасно стеснительная, молчаливая девушка, как завороженная, пошла за ним, когда он взял ее за руку и повел во двор старинного девятиэтажного дома, в подъезде по лестнице черного хода, во мгле, чуть разбавленной полосками вялого света из-за неплотно прикрытых кухонных дверей на двух-трех этажах. Он вел ее вслепую, по ступенькам выше, выше, мимо кухонных дверей черного хода, из-за которых слышались приглушенные голоса жильцов, звяканье кастрюльных крышек, детский плач, кашель, чертыханье, один раз — это было на седьмом этаже — он угодил ногой в бок помойного ведра, выставленного возле двери, и он все вел и вел ее наугад, наверх, одной рукой по стенке, а другой держа влажный горячечно пылающий чебурек ее ладони, вел, вел свою первую женщину наверх, сквозь приторные запахи кухонь, облупившейся известки, кошачей мочи, склизких подтеков на стояках, и сердце в его груди колотилось так, будто это было не его сердце, будто медвежье сердце пересадили ему, и оно вот-вот обрушит хрупкие своды чуждого ему тесного существа.
в блеклом, словно запыленном свете от окна они увидели, как из ведра выпрыгнула крыса и метнулась вниз.
о том, как Фарида вскрикнула, стиснув еще сильнее руку своего спутника, и прижалась к нему. Медвежье сердце билось в горло, распирало грудь, виски, живот чудовищным напором алчной слепой зверской крови… Я прижал ее к стене… в стену… стена, мягкая, уминающаяся. Вскрик непонятного слова. Спазм ожога. Стенание. Опустошенность.
о том, как где-то внизу, в луче из дверной щели, крыса доедала медвежье сердце.
о том, как на улице в приступе благодарности он вдруг схватил ее, приподнял и понес на руках, и она сползала, ему было тяжело и он почти выронил ее, но из последних сил продолжал нести, а она, махая руками и с появившемся в ней горделиво-кокетливым смешком, притворно вырывалась и тараторила:
— Ой, Кост, пусты за, слыс, ой, ну зе дурацок, человек увидит, смияца будет…
о том, как он опустил ее на землю, и в него входило что-то пугающее, сродни пагубе красоты, что-то новое, оторопелое, стыдное, гибельное, мучительно влекущее и неизбывное.
Диетическое яйцо затрещало, и из нутра треснувшего куполка, в том месте, где стоял бледный чернильный штамп с датой выпуска, что-то пискнуло, а потом оттуда высунул головку котенок с прикусанным ярко-красным язычком. Через три дня он сидел на дне ванны и мяукал, пока не пустили воду. Он перестал мяукать, впрыгнул на ребро раковины, дождался, когда в ванну натечет достаточно воды, нырнул вниз и поплыл. Это сделалось любимейшим развлечением его маленькой жизни. Очевидно, он просто не знал, что кошки боятся воды, ему никто не сказал, что этого следует избегать, и он полюбил ежедневные купания.
А через год у него на лапках, между коготков, выросли и тонко-тонко натянулись зеленоватые пупырчатые перепоночки… А осенью он куда-то пропал.
Над землей вставало солнце. Кончики его лучей почему-то не достигали Константина Сергеевича, маяча в некотором отдалении. Сам Константин Сергеевич словно был в полости шара сумрачного сгустка, и лучи упирались в сферу этого шара, не проникая во внутрь его, и на кончиках этих лучей Константин Сергеевич разглядел блестящие розовые ноготки.
Кашель Николая Терентьевича распугал его видения. Он, значит, проваливался в сон. Огляделся, понял, что все проснулись, ощутил у себя под мышкой градусник. Он даже не зафиксировал, как приходила сестра (кто сегодня?) и раздала всем градусники. Больные молча лежали, Николай Терентьевич жевал, держа в руке булочку. Он сглотнул и опять стал жевать. Его сиреневато-сухие ногти с белой каймой обреза были какие-то свежеподстриженные, чисто, коротко и аккуратно, не просто очень чисто, а стерильно чисто, как всегда у больных в больницах.
Зашла старшая сестра Ирина Евгеньевна, сделала укол в плечо.
Константин Сергеевич дождался, когда закачает, отделился от себя и направился — это утро? сумерки? — в сторону какого-то дачного поселка. Заборы, кусты, туман. И вдруг шагах в пятнадцати от себя среди кустов он увидел маму, она в длинной белой больничной рубашке. Мама смотрит на него поверх кустов улыбчивым успокаивающим взглядом. Он хочет идти к ней, но она тихонько, вкрадчиво приставляет палец к губам, и ватно, как в кино при замедленной съемке, уходит за кусты. Он за ней. Понимает, что она убегает от него. Видит на размокшей лесной тропинке свежие следы от ее босых ног, в эти следы еще затекает обратно мутная вода. Впереди мелькнуло белое. Тяжело дышать, он побежал, нагнув голову и глядя на заплывающие водой, только что оставленные отпечатки.
Вдруг его вынесло на пахоту, и он упал, увязнув в глубокой сыроватой земле. За леском, оказывается, было поле. Упав, он видит перед лицом впечатанный в землю глубокий след босой ноги. Он вскакивает. Не поднимая головы, бежит по следам и вдруг видит, что они делаются мельче, бледнее, точно мама с каждым шагом своим становится легче. Слабее, мельче, бледнее… И вот следы обозначаются все менее различимо и, наконец, сходят на нет.
Посреди поля следы, никуда не сворачивая, бесследно исчезают. Он, тяжело дыша, озирается по сторонам и чувствуя, как холодный пот струится по спине, медленно, одеревенело поднимает голову в слепящее — до пустоты — небо…
Открылась дверь в палате.
— Ну, Костя, поехали, — сказала сестра Ирина Евгеньевна. И позвала головой в коридор. Константин взобрался на тележку, стоящую у дверей палаты. Какие-то слова говорил Николай Терентьевич. Пижаму и брюки Константина попросили снять, он подал их побледневшему Вадику.
У лестницы он увидел Свету, она стояла в белом халате внакидку. Света подбежала к нему, глаза ее страшно косили, как сегодня в довоенном дворе. Она схватила его за руку, ее оттащили, вывели из коридора.
На развилке возле туалета тележка не могла разъехаться с другой тележкой, которую везли к лифту из реанимационной. Тележку с Костей пришлось завезти в закуток. Но он ничего этого не видел, укол опять затуманил ему голову, просветы становились все реже. В какой-то момент он вдруг (это было еще в коридоре, как долго его везли!) приподнялся на локте и одними губами, беззвучно, стал звать своего зама Пестрякова; как же мы не доперли раньше… измени сегмент в светоделителе… опорный пучок, не будет залипать в зазоре… сегмент сегмент вот и вся доводка, сегмент вот и…
Белое стол капельница что-то укололо в запястье почувствовал ремни какой-то парень в халате привязывал ноги что-то кому-то говорит не то по-латыни не то…
а он не по фене ботает?
Внизу было матовое, ровное, и медленная тишина, и это удалялось, а наверху хлюпало что-то красное, пузырящееся, и его несло туда. Он перевернулся ногами вверх, и его отбросило обратно и, падая в лиловое, он вдруг удивился, что это тягучее жидкое зеркало, потому что со стенки податливо-уминавшейся воронки на него — нос к носу — дышало его собственное лицо. Отражение запотевало от его дыхания, и он резким круговым движением запястья протер перед собой ртутно расступающуюся массу. Но тут стекловидная масса под ним уплотнилась, вогнутая сфера распрямилась и исторгла его вон. Опять понесло его вверх, навстречу ревущему, красному, пузырящемуся.
Операционная сестра подошла с какой-то косынкой.
— Слышь, Олег, — говорила медсестра парню, который в ногах Константина Сергеевича затягивал ремни, крепил.
— Ну? — откликнулся тот, выбрав паузу. Он побагровел от натуги.
— Я говорю Сонька стерва все-таки. Я ж не в свою смену вышла, мне сегодня в шесть часов позвонили, уговорили. Сонька бюллетень взяла, слышь? Ха, ребенок у нее заболел, — ловко сняла рубаху с Константина Сергеевича, повязала косынку, поправила капельницу, все время поглядывая, не идет ли хирург Валентин Сергеевич. — Знаю я какой ребенок у нее заболел. Небось, опять ей Мишка морду набил, вот и не вышла. Слышь, Олег…
…по почему так бесцеремонно я еще не провалился я слышу морду стерва почему это может быть последнее что я услышу в этом об этом мире почему эта ругань а не