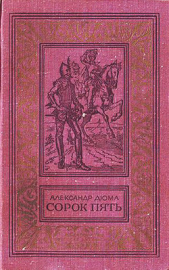Предпоследний возраст

Предпоследний возраст читать книгу онлайн
Повесть — внутренний монолог больного, приговоренного к смерти, смесь предоперационных ужасов, дальних воспоминаний и пронзительных раздумий о смысле прожитого.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Неужели все это было? Константин Сергеевич улыбнулся. Он до сих пор не избавился от этих своих фантазий, или мало ему реальности, скучно, разве и сегодня он изжил странные упования?.. Не хочется расставаться с мыслью, что в человеческой природе нет сил высшего порядка. Нельзя вот так взять и взлететь, вы понимаете это? Можно взлететь лишь на воздухоплавательном аппарате, ясно? У вас есть документы на право управления аэротранспортными средствами? Нет? Тогда ходи пешком, хмырь болотный!
Тут мельком представился Константину Сергеевичу облик человека в тюбетейке. Да, это тот русский, который не знал ни слова по-русски. Где он видел его? Ну да, в командировке, в глухом узбекском ауле, Константин Сергеевич ездил в те края на институтский полигон испытывать предпоследнее изделие. Тому мужику было под пятьдесят, и история его была проста: в сорок втором в Узбекистан эвакуировали ленинградский детдом, почти всех сирот разобрали к себе местные жители, и в том числе этого, годовалого. Вырастили, воспитали, в армии он не служил из-за увечья ноги, нигде не был, никуда из аула не выезжал, так и работал в колхозе при овцеферме. Про него потом рассказал Константину Сергеевичу шофер, возивший его на полигон. Так вот, когда Константин Сергеевич, ничего еще не зная, обратился к тому русскому пастуху по-русски, тот не понял, как-то оцепенел и перевел взгляд на шофера как на переводчика. Разве это не потрясающе? Тюбетейка. Прищур. Но наш, белесенький, светлоглазый. Меня не понял, пусто, зато как заговорил с шофером, как ловко, легко, по-свойски выговаривал все эти «гюльфюль», «ашшуля», «абуль», «чиройли»… И не свело губы, весь артикуляционный аппарат не дал ни одного сбоя при произнесении слов, столь, казалось бы, чужих, структурно иных по сравнению со словами кровного языка. В какой-то момент Константину Сергеевичу показалось, что в глазах пастуха мелькнуло воспоминание или, вернее, шевельнулось ущербное чувство подвоха, что непонятные звуки имеют какой-то странный отзвук в его уме, и еще Константин Сергеевич, проезжая потом на «уазике» с полигона мимо овцефермы, подумал о том, что незнание этим пастухом русских слов не было просто отсутствием знания, а оно именно наличествовало зримой пустотой отсутствия, как место, где остался отпечаток, вмятинка украденной святыни, замещенной чем-то другим… Но разве мозг и язык не связаны неразрывными морфологическими узами? Разве мозг не отторгает чуждые ему слова по тому же закону несовместимости, по какому организм отторгает пересаженные чужеродные ткани? Разве в сосуде ума благоверного мусульманина не скиснет вмиг внезапно влитое вино христианской мысли? Так почему же в мозгу того пастуха с овцефермы не створилось молоко инородной речи? А где память губ, нёба, гортани, языка? Память мышления?
однажды лунной азиатской ночью сел бы он в своей постели и тихо, чисто произнес, дивясь дивному звуку собственной речи:
— Отара. Ночь. Звезда.
Пусть его не учили ни одному русскому слову, пусть он не слышал звука родной речи, но ведь в недрах его мозга таились же, дремали клеточки, семечки русских слов, русских понятий, заложенных предками, врожденных, зачаточные-то атомы русского мышления, почему же не проявились, гены не отозвались, зерна не взошли, пусть нипочему, пусть на пустом месте, почему не самозародились в его мозгу русские слова и русские мысли, как самозарождаются же какие-то микроорганизмы в парном мясе? Не бывает так? Так вот и я о том, о этой самой скуке детерминизма тогда на полигоне думал. Не бывает, и все, хоть лопни, сойди с ума, умри, а вот не бывает, и все.
Тюбетейка куда-то уплыла.
Константин Сергеевич открыл глаза, обвел взглядом спящую палату, вздохнул. Нет, он не забылся, он ни на минуту не забывал, где он и что ему предстоит сегодня утром, просто блуждающие картинки, как это часто бывает, ложились вторым слоем, поверх. Но ему не хотелось остаток ночи думать о предстоящем, и он снова встряхнул свою память, как встряхивают градусник, к начальной отметке…
Бегунок. Бегунок.
Что я вижу? Старуха Заливанская, изрыгая вполголоса ругательства на непонятном языке, ушла вглубь дворового садика, в зону недосягаемости артистических плевков Мустафы… Боже, а вон из подъезда… как я волнуюсь… выкатывает колесо (ржавый обруч, поддерживаемый гнутым на конце железным прутом) ужасно знакомый мальчишка лет десяти. На нем зеленая рубашка… Эй, эй! Это я. Возможно ли такое? И рубашку эту помню, потом, когда у Муськи котята родились, эта износившаяся байковая рубашка пошла им на подстилку. А Мустафу, смотри ж ты, я все-таки объезжаю подальше, что-то, значит, тогда между нами произошло, наверное, бил он меня, не помню, да и ладно. Держусь я осторожно, по ту сторону ограды, но при этом не забываю показать класс владения колесом, качу ржавый ковыляющий обруч то перед собой, то сбоку, то стоя на месте, то глядя на него, то не глядя, то непостижимо медленно (это особенно трудно), иногда заставляю его делать фигуры и виражи под таким наклоном, что он почти ложится плашмя на асфальт, но вот именно что «почти», в этом весь фокус. И вдруг обруч заело в крюке, когда я загляделся на старуху Заливанскую. Это был обруч от бочки, поэтому на плоскости он имел скос и норовил все время заваливаться на бок — а я не давал, владея искусством держать направляющий крюк под особым углом. И вот обидная оплошность, засмотрелся… обруч выскочил из крюка, стал на месте выписывать сверкающие восьмерки и петли, волнообразно перекатываясь на гранях обода, он замедлял свою пляску и вдруг, перед тем, как неподвижно застыть, неистово завибрировал, дробно стуча ребрами обода об асфальт в агонии последнего содрогания.
Все это время маленький мальчик внимательно смотрел на обруч. Он был сконфужен.
— Ну, здравствуй, — сказал я со своей высоты.
— Здравствуйте, — сказал я, жмурясь и задирая голову.
— Я смотрю, ты не очень худой, я, честно говоря, думал, что тут у вас все как-то… хуже, — начал я и оборвал себя. — Уроки-то сделал?
— Сделал, — сказал я. — А вам-то что?
— Ну ладно, вот уж и обиделся, — примиренчески говорю я. — Извини. Дать тебе сахару? У меня случайно есть.
— Как хотите, — я опустил голову, помолчал. — Давайте.
— Лови, — крикнул я и бросил плитку сахара в аэрофлотской обертке. Я вытянул руки, поймал. Удивился разочарованно. Повертел незнакомую вещь, понюхал, попробовал надломить — не поддалась, испытующе посмотрел наверх, положил в задний карман.
— Вы вообще что — к маме, да? — сказал. — Лучше идите. Она сегодня все равно в вечернюю смену, — посмотрел опять вверх, жмурясь, и нагнулся за своим колесом.
И я наверху замер, опять услыша дребезжащий, скребущегромкий — железо о железо — звук.
«За что мне это прояснившееся окошечко в мутном зеркале», — думал Константин Сергеевич. Исжимается сердце, и хочется все смотреть и смотреть. Уехал под арку, исчез, сошел на нет. Костя… Костенька…
Да, тогда не с чем было сравнивать, времена были как времена, у десяти-одиннадцатилетнего человека нет другого времени, кроме текущего, вот почему…
ой закачало надо же так забыться увлечься качнуло как когда одной ногой в лодке другой от берега туманит таблетка не кровать а качели нет лодка но долго еще лодка операция в десять еще вызовут делать клизму кто сегодня да хорошо не Наташа а Зоя Семеновна ничего а это еще просто успокаивающая таблетка потом сделают укол главный а может они анестезируют иначе маски капельницы а может смотри отпустило никаких качелей тьфу лодок ясность и все еще я где в палате спят
Светало. Константин Сергеевич приоткрыл глаза, увидел мутную, как бы в подтеках, полоску оконного пространства, иссеченную тенями от его ресниц. Он сомкнул глаза, сжал их, и тогда свет стал проникать в глубину его зашторенного веками зрения сиренево-алым отблеском ровного пламени. Хорошо стало, будто поставили в угол. Поставил кто-то большой, впившийся рукой в плечо — вот, отпустило… Как он это любил! Они думали, что они его наказывают, а ведь стоять в углу так интересно! Во-первых, не надо смотреть на доску и вообще, и можно отключиться, рассматривать паутинки трещин, вдыхать приятный запах известки, ловить и расшифровывать заспинные звуки… лицом к стене… а сам угол… глаза вверх… что такое угол… сколько углов в верхней точке потолка… угол… сегмент…