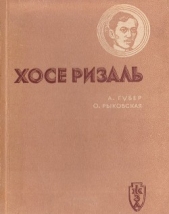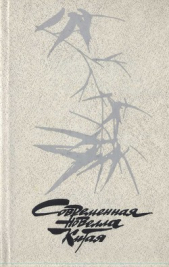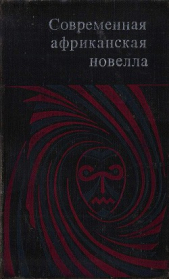Современная филиппинская новелла (60-70 годы)
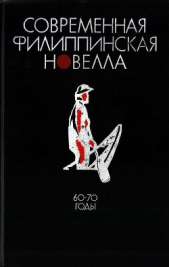
Современная филиппинская новелла (60-70 годы) читать книгу онлайн
В сборнике представлены лучшие новеллы, принадлежащие перу писателей разных поколений. Разнообразные по стилю и авторской манере произведения отражают самые жгучие политические, социальные и нравственные проблемы, волнующие современных филиппинцев.
Большинство рассказов публикуется на русском языке впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы с презрением относились к запросам общества, потому что оно было безразлично к нам.
Теперь я знаю, что Ахилл был не прав; дело не в той женщине, которую взял себе Агамемнон, дело в Елене. Ее нельзя вернуть без сражения с троянцами, а может быть, и со всеми греками.
Во все времена лишь немногие создавали красоту и искали ее, остальные должны были просто принимать ее: их принуждало к этому либо время, либо просвещение. Именно поэтому художник всегда стремился адресоваться только к избранным; предполагалось, что силой своего искусства он растворяет прошедшие века и век нынешний, религию, политику, способы мышления и превращает их в архетипы и идеи. Что ж, если мы ограничимся тем, что будем следить исключительно за пульсацией собственной аорты, мы избавимся от выполнения большей части долга. И то, что случилось с нами — с теми, которых ты оставил, — может быть суммировано в образе человека в башне: его едва слышит толпа и не понимает… а может быть, его отверг сам бог, который не слышит вовсе.
Соблазнительно создать из этого образа героическую драму об одиноком и гордом художнике, отвергающем время и отвергнутом им. Впрочем, слово «героическую» лучше убрать — оно применяется только к тем, кого распинает толпа, не принимающая дара; тогда как в нашем случае все по-другому — мы ничего не предлагаем. Единственный дар — это отчуждение, которое принимает сам художник… Перспектива принять страдания от руки ближних вызывает в нем отвращение.
Отсюда печать на всех творениях искусства: изыдите, филистимляне! Искусство, призванное доказать, что оно не враг человеку, начинает с того, что создает врагов.
Но все это слишком космично, а я хотел объясниться, не прибегая к теологии. Говоря просто — я освободился от тебя.
Ты был первым голосом нашего поколения. Так уж мы были устроены тогда, что предпочитали монологи диалогам. Никто не выступил против твоего решения покинуть пустыню. Когда ты объявил, что искусство лежит по ту сторону добра и зла, я первый произнес «селям». Забудьте все, есть единственная реальность — Слово.
А наша страна была лабиринтом — сделай себе крылья и лети в экстазе свободы. Но ведь это не что иное, как социальное безразличие, варварство, политический оппортунизм, то есть все то, чем так страдает наше общество. А в самом конце лабиринта — Минотавр, пожирающий людей. И вот Икар, эта чувствительная душа, которая не может пробираться лабиринтом, должен улететь… Икар, конечно же, сошел с ума.
И когда настала очередь Тезея, Минотавр все еще был там. Тезей убил его и нашел путь назад с помощью нити Ариадны. Это ведь тоже способ освободиться, куда лучший…
Извини: мне самому надоели примеры из классики, я их использую, чтобы ты лучше понял меня. Начать с того, что здесь у нас никто не может уподобиться Тезею по той простой причине, что нить, связывающая нас с прошлым, слишком коротка. Это-то и приводит в отчаяние: мы не можем найти выход из лабиринта, ступая по собственным следам. Впрочем, некоторые думают, что у нас есть нить Ариадны — в виде заимствованной культуры, прежде всего испанской. И тогда нужен не Тезей, а Лам-анг [59] — у него хватит силы разрушить лабиринт; или смекалка Хуана Ленивого [60], которая, если ее применить с умом, может превратить и сам лабиринт, и чудовище во что пожелаем.
Прощай, Икар!
Первый принцип любого творческого акта — превратить тьму в свет.
Но мы нация бастардов, у нас слишком слабый голос. Кто мы? Никто. Что ж, признаем наше банкротство — признаем вплоть до того, что у нас нет ничего, что стоило бы спасать. Но ведь признать это — значит уже сделать шаг вперед.
Такое признание требует строгой дисциплины. Мы должны отказаться от всех поверхностных определений. Мы не дети Испании и не дети Америки. Мы, строго говоря, побочный продукт завоевания.
И если нечего спасать, то все надо создавать. Мы должны создать самих себя.
Я писатель, и мой долг — создавать образы, взывать к миру, находящемуся вне той тюрьмы, в которую я сам упрятал себя, стараясь выбраться из лабиринта. Значит, надо вернуться в пустыню.
А пустыня совсем не изменилась с тех пор, как ты уехал, разве что стала еще бесплоднее. Вовремя отказавшись от попытки бежать в изгнание, я усвоил кое-какие уроки жизни и борьбы в пустыне. А этому предшествовало осознание того, что мы абсолютно не понимали пустыни, о которой столько говорим.
Твоя страна, твоя пустыня не отвергала тебя — тебя отвергло развращенное общество, и ты его отверг. Ты отождествил — как и я тогда отождествлял — бесплодное общество со страной, которую и тебе, и мне еще только предстояло открыть. Я знаю: ты любил свою страну, но ты ее просто не видел.
Чем же еще объяснить ностальгию, которой ты страдал в первые годы изгнания? Ты пытался говорить о ней спокойно, словно невзначай, писал о том, как тебе не хватает адобо, — как будто твоя связь с нами, со мною, была делом вкуса. Это было так не похоже на тебя — писать об адобо и тубе [61], но ведь смутное чувство связи с родиной должно было найти выход. Так, не имея отца, ты становился своим собственным патриархом. Это был подвиг, подвиг героический и отчаянный, и, может быть, в этом лежит суть твоего гения. И ты ведь не сумел убежать: подобно тому как извращение находит выход из сферы подсознательного, так родные мотивы окрашивали каждую строчку, которую ты писал. Ты говорил нам, ты был с нами — голос без тела.
Да, ты голос без тела, голос невидимого поколения. А сейчас это поколение и его первенцы ищут тело, готовы создать его любой ценой. Время описательства — пустого и ненужного — прошло.
Ты последний изгнанник. Отныне изгнанников больше не будет — будут только дезертиры.
Все это, скажешь ты (я почти вижу твою улыбку), чрезвычайно благородно, очень подходит к случаю. Как мне удастся разрешить практические литературные проблемы, с которыми неизбежно столкнется подобное благородство? Ведь всегда есть угроза скатиться к пропаганде, к социальным нравоучениям.
Да, риск есть, хотя часто пропаганда необходима, чтобы избежать незначительности. Невозможно отрицать, что в моих ранних вещах, да и у других тоже, нельзя узнать, где происходит действие. Я не устану повторять, что Мальро, положив начало «литературе баррикад», не утратил «универсальности», а ведь его вдохновила китайская революция. Да, он всего лишь прокомментировал социальную обстановку, но ведь тем самым он описал человеческие условия: собственно, «Человеческая судьба» вначале называлась «Человеческие условия». И когда китайская революция изживет себя, «Человеческая судьба» все еще будет трогать нас, а может быть, китайская революция сохранит свое значение как раз благодаря «Человеческой судьбе».
Лучшее, что мы можем сделать для человечества (если писатель тешит (себя столь великой надеждой), — это быть преданным каждому человеку, с которым мы встречаемся. А эти люди, уж конечно, не живут в изоляции от тех сил, которые формируют и калечат их. Где эти люди? Здесь, дома. Поместить их всех без разбора в искусственно нами созданную вселенную, где они только делают детей и якобы не ощущают воздействия ни политики, ни этики, ни законов (то есть не ощущают воздействия общества), — это означает в лучшем случае быть преданным искусству за счет предательства человека. Отделять человека от искусства — безумие, так можно прийти к маркизу де Саду, но не к подлинной литературе. (Конечно, ты можешь сказать: я хочу писать, просто писать, не обязательно большую литературу. Но я убежден: если ты отвергаешь любые «практические» обязательства, ты тем самым утверждаешь за собой особые привилегии, а это не что иное, как потуги на величие. Человек скромный всегда принимает обязательства.)