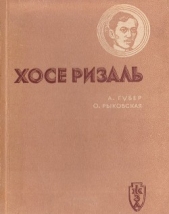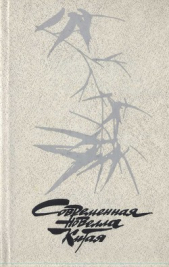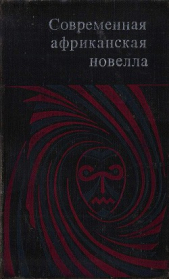Современная филиппинская новелла (60-70 годы)
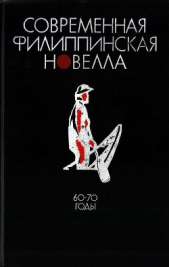
Современная филиппинская новелла (60-70 годы) читать книгу онлайн
В сборнике представлены лучшие новеллы, принадлежащие перу писателей разных поколений. Разнообразные по стилю и авторской манере произведения отражают самые жгучие политические, социальные и нравственные проблемы, волнующие современных филиппинцев.
Большинство рассказов публикуется на русском языке впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На пути в Пасиг мы заскочили передохнуть в дом Авельяны, единственный сохранившийся в Малате [58]. Японский снайпер открыл огонь, и мы укрылись в развалинах, пробравшись между мертвыми и ранеными. Один Рауль сохранял хладнокровие. Он забрал у мамы котел с рисом, и, когда мы падали на землю и рис просыпался, он собирал его, отряхивал грязь с кусков свинины — и все это непринужденно, с шуточками. Он захватил с собою четки и не расставался с ними, повторяя, что, если ни с кем из нас ничего не случится, он сделается священником.
Мы спустились в разрушенный подвал и обнаружили там группу бьющихся в истерике метисов. Дочь сеньоры Бандана, подруга Лины, сообщила ей, что подвал все время под пулеметным обстрелом и поэтому необходимо перебраться в бетонный гараж, где спряталась вся ее семья. Лина ушла с ней. Мы верили в свою удачу и остались. Устроились поудобней, сделали по маленькому глотку воды из бутылки, но до еды никто не дотронулся. Ребенок Эден, сосавший грудь, оказался в крови, и она плакала, роняя слезы ему на лицо. Несколько минут спустя появилась Лина, одна. Она была вне себя. В гараже, куда они с подругой направлялись, взорвалась граната, и она видела, как вся семья Бандана и ее подруга погибли.
Мы бежали, не думая о цели. Наконец мы нашли высокую бетонную стену, возле которой несколько железных листов образовали нечто вроде убежища; правда, от каждого движения листы громыхали, выдавая наше присутствие. Несколько японских солдат впали в безумие: штыками они тыкали в развалины всюду, где им чудился какой-нибудь шорох. Рауль сжал голову руками и посапывал как младенец. Мы слышали, как поблизости ходит японский солдат — его кованые сапоги тяжело стучали по камням. Ребенок Эден захныкал. Эден дала ему грудь, но он не взял — молока у нее давно уже не было. «Успокой его», — прошипела мать. Шаги приближались, потом замерли. Мы услышали, как щелкнул затвор. Потом шаги раздались опять, направляясь к канаве напротив нашего убежища. Теперь ребенок захныкал всерьез. «Размозжить ему голову бутылкой», — предложил кто-то. Бутылка оказалась в руке отца. Он поднял ее для удара и опустил — схватило живот. Потом он попытался стиснуть тонкую детскую шейку, но пальцы у него сделались слабыми, точно из ваты. Солдат был уже совсем рядом. К счастью, ребенок на минуту затих.
Когда шаги стали удаляться, все разом заговорили. «Уходи, Эден, — сказал отец, — уходи с ребенком и спаси нас. А может, ты и сама сумеешь спастись». Эден медленно вылезла наружу, произведя адский грохот листами железа. Через минуту она вернулась. Молча протянула ребенка отцу, словно совершала жертвоприношение. Японец возвращался. Лина бормотала проклятия, шагая взад-вперед, то садясь, то вставая. «Я сделаю это! — закричала она. — Дайте мне!» Она выхватила подушку, которую я несла все это время, и прижала ее к лицу младенца. Потом она села на подушку, села тяжко, всем своим весом. Мать, онемевшая, уставилась в землю, зажав руки между коленей. Под подушкой послышался задыхающийся плач. Лина медленно поднялась, кусая ногти. С ней произошла истерика, и папа дал ей пощечину. Эден взяла на руки мертвого ребенка и принялась его баюкать.
Мы уснули в изнеможении. Смолк грохот шагов. Взошла луна, ясная и светлая, словно обещание другой жизни, и через какое-то время мы смогли выйти наружу. Несколько человек с деревянной тележкой, груженной горшками, сковородами, матрасами и узлами, тащились мимо. «Американцы уже здесь, — сообщили они. — Пришли по мосту Санта-Крус». Отец пересчитал нас. Бони нету, мистера Соломона нету. Эден не найдешь. Оглянувшись назад, мы смогли разглядеть сквозь скрученные стальные балки рухнувших домов одинокую фигуру среди развалин.
— Возможно, она вернется, чтобы похоронить ребенка, — сказала мама.
— Надо идти, — промолвил отец. — Она догонит нас.

Адриан Э. Кристобаль
ПИСЬМО ЭМИГРАНТУ
Перевод И. Подберезского
Вместе с письмом я получил твою новую книгу. Отрывки из нее мы читали на нашей встрече. Что говорить — здесь это настоящее событие. Лет пятнадцать назад все написанное тобою только раскололо бы нас: одни называли бы тебя шарлатаном, другие провозгласили бы гением. Сейчас по-другому: все согласны, что ты гений.
Что ж, можешь ты сказать, давно пора. Но ведь пятнадцать лет не такой уж большой срок… После чтения начались воспоминания, посыпались вопросы. «Предположим, — спросил меня кто-то, — он остался бы здесь. Смог бы он написать эту книгу, да и другие?» Я ответил, что ты был бы писателем где угодно. Один из наших любителей путешествовать на иностранные денежки высмеял мой «романтический идеализм»; он объявил, что все дело в эмиграции: гений не может произрастать в пустыне.
А пустыня, конечно, — наши острова, где ничто живое расти не может. Пятнадцать лет назад я пожал бы руку за такие слова, но ведь пятнадцать лет я жил в этой пустыне и проклинал ее… И я изменился. Нет, я не потерял способность возмущаться, просто я научился видеть в пустыне ростки жизни. Даже камень несет в себе нечто неповторимое, даже из репы можно выжать кровь. Главное — не отчаиваться.
Не усмехайся — я сумею объясниться и защитить себя. Ты чувствовал, что был не нужен: ты уехал. Я восхищался твоей смелостью и завидовал твоим возможностям; ты заставил меня обещать, что скоро я последую за тобой, и я охотно обещал. И вот прошли годы, а я все еще здесь, хотя я, как и ты, не чувствую, что здесь у меня есть корни. Но в отличие от тебя я не мог стать выше своих обязательств. Я не стараюсь быть слишком умным, и, может быть, именно в этом и состоит разница между гением и талантом.
Если хочешь, можешь попробовать сбить меня с моих позиций одной из твоих жестоких сентенций: например, что долг — последнее прибежище неудачника, как патриотизм иногда бывает последним прибежищем подлеца. Мне не удалось сделать крылья и улететь, как ты советовал, у меня не было храбрости Икара — в этом суть. Но дело в том, что теперь меня не так легко сбить с толку. Тут все просто: я пытался и не мог, не мог сам отправиться в изгнание. (Меня надо вышвырнуть, сам я не пойду.)
Что до тебя, то ты совершил свое печальное действо — ты уехал. Ты писал, что наслаждаешься свободой, наконец-то можешь выразить себя. Ну а мне приходилось молчать. Почему я осужден пребывать здесь? Это же оскорбление. Ахилл, униженный Агамемноном, скрывается в своей палатке и отказывается воевать за возвращение Елены… Я, как и многие другие, был оскорбленным Ахиллом (пользуюсь этим образом и как лозунгом, и как щитом), разговаривал только с Патроклом, а кончил тем, что говорил сам с собой. Так бывает со всеми, кто замыкается в узком кругу.
Я бы так и остался в положении Ахилла, если бы мне не пришли на память твои же слова о нем, сказанные в веселую минуту: «Наверное, он был прав, стараясь укрыть уязвимую пяту!» Иронично, но факт: слова эмигранта заставили меня задуматься и в конце концов привели к прямо противоположному выводу. Отъезд — разве это не способ укрыть уязвимую пяту? Да, конечно, не так уж трудно покинуть пустыню ради горных высот, но ведь и горы могут быть пустынными. Конечно, это требует смелости — жить высоко, жить высокомерно, но тут еще есть вопрос о принадлежности (в конце концов, пустыня-то наша). И этот уход со сцены мы называли абсолютной преданностью искусству!
Неизбежно кто-то должен был спросить: сколько предательства по отношению к человеку кроется в абсолютной преданности искусству. Я сам всегда отказывался осуждать современность, ссылался на то, что я пишу для всех времен — все говорят, что стараются писать как можно лучше и не думают о современности. Но ведь еще Гёте говорил, что всякий человек призван оказывать влияние на настоящее.
Конечно, мы никогда не признавали эту простую истину. Мы не оказывали влияния на настоящее. Даже не пытались.