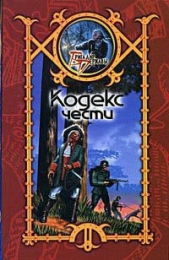Кодекс Гибели, написанный Им Самим

Кодекс Гибели, написанный Им Самим читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Свинопасам знаком этот звук: так может зазвенеть разбитый аквариум, из которого с ропотом убегает вода. Павел сергеевич слышит его на восьмой странице кодекса, когда доходит до незначительного слова «впрочем». «Впрочем» — это наверняка сомнение. Но что значит вот это: «впрочем, у вас может ничего не получиться»? Да, и верно: может ничего не получиться, говорит павел сергеевич илье. Так однажды я вырастил для ценного мальчика клетку из ивовых прутьев, и он чувствовал себя в ней самозабвенно. Вы знаете китайское поверье: нужно выпускать мелких птиц, это приносит удачу, порой даже в денежных делах. В конце концов, в декабре двадцать шестого года a.s., клетка была открыта. Он неловко вышел, закурил. Мне показалось, что я мертвый корабль, тускло подрагивающий на ложе из ракушек. В эту секунду мне даже не нужно было его увядающее от сомнений тело. Так приятно разрушать всё построенное чувством, которое мы неискренне называем страстью. Всё погибнет и без того, это лишь сигнал перед финишем, наподобие колышка с привязанной к нему волч_ьей лентой. Мы знаем, что гибель неизбежна. Gohus. Негр сказал об этом. В брошюре всё написано. Пощады не жди, деться некуда. Всё сломано, зашло безнадежно далеко, и вот уже капкан приготовился лязгнуть. Из тумана возникла птица, влетела прямиком в рот по млечному пути. Беглый раб приказал: рубите. На охотника обрушилась рысь. Он шел, ничего не ведая, по тропинке, разбрасывая скорлупу. Недавно он решил, что влюблён, а теперь сердился на глупого игоря. Почему он убрал чучело глухаря, почему он любит асфальт и марихуану. Следует почтительней относиться к молодости, убеждал себя охотник. Хотя невыносимо, что эта музыка становится всё громче. Мне надо тщательней бриться, реже пить зеленую настойку. Возможно, стоит найти модный футляр. Надо расставить компромиссы, как ловушки. В каждом двойное дно. Одни люди любят сидеть дома, другие ходят на охоту. Лес многих готов напугать, особенно в сумерках. Если бы игорь подходил мне, как ботинок, если бы можно было вставлять в него ногу. Семнадцать лет, купец и половой. Игорь, игорь, сердито думал охотник. Как раз в этот момент на него и свалилась разъяренная рысь. Обычно ничего и не получается, говорит илья. Мы живем в ручье, где всё конечно. Ведь даже какое-нибудь море нетрудно осушить. Мальчики неизбежно стареют, новых становится всё меньше. Так приятно думать, глядя на катающегося на коньках: вот этот будет ночью со мной. Тамид! Два блядских года! Все эти рубашки навыпуск, шорты, лодыжки, колени — то, что способно впиться сладким штопором. Бывало, я не мог оторвать взгляда от его одежды, сваленной на полу, или замирал, открыв шкаф. Семнадцать лет а-а-а-а-а-аооооооооооуууууууыыыыы русские свиньи, вы построили сырые перегородки, вы мешаете, лезете, суетесь, советуете, командуете, требуете. Только от вас все эти скользкие невзгоды. Однажды я шел по улице на концерт негодяя, споткнулся о недужную трубу, разбил колено. Брюки были изгажены безнадежно. Толстый человек промчался мимо на вопящем велосипеде. Оставалось только побрести домой, хромая. Ширму распорола бритва неудач. Это мой любимый сорт: ошалевшие от хуя. Любящие чужие хуи, как свой и даже иногда чуть больше. Самозабвенно кусающие, лижущие, грызущие, оттягивающие и отпускающие. Не сносить тебе головы. Автомобиль проехал, просвистели шины. Я стоял в тумане, пальто казалось непомерно широким. Могут ли сочетаться туман и ветер? Если так, был еще и ветер. Эти прямые, прочерченные бездумной рукой линии вечно продувает. Богомерзкий город. Астма казалась живым существом, нет — растением с тусклыми когтями. Подорожником, цепким корнем охватившим бронхи. Из тумана могло появиться что угодно: автомобили, лужи, птицы, наконец — одинокий красавец. Мальчик, которого хочется пригласить в вычищенный особняк. Дитя подворотен, за один вечер привыкающий к хорошему вину. Лоботряс. Я бы хотел, жалуется сережа, быть прожигателем жизни, а вот ведь превратился в гуру. Все хотят слушать меня, но потом уходят танцевать с другими. Ты будешь сосать? Будешь сосать, крыса? С каждым годом всё неприятней появляться в полумраке, где ни один взгляд не остановится на тебе. Разглядывают только того, кто пришел с тобой. Искусственные спутники сатурна. Так и безмозглый спартак мог интересоваться нищим увлажнителем сандалий и отверг меня, господина с моноклем. Старость омерзительна, как чесотка. Сюжет из южных штатов: дабы не транжирить наследство, они решили до конца своих дней пробыть вместе, в жирной постели. Даже колокольчик, зовущий к обеду, не мог ничего зажечь. Фрукты лежали здесь же, на тумбочке, неспешно разлагаясь. В комнате тускло истлевали багровые индийские палочки, похожие на съежившиеся шутихи. Мир отслаивался, как нищая сетчатка метерлинка. Искусство уже не провоцировало страсть, только убаюкивало. Где ты, рем? Я зарезан, мой фюрер. Нет, говорит сережа, это постыдно, постыдно, постыдно. Как в книге судей, где не помню уж по какому случаю возникает блюющий пёс. И это вместо самого воодушевляющего, что есть на свете: корзины цветов. Больной запах испепелил прихожую, проник даже в спальню, где третий день подряд не прекращалась битва. Израненные, выползли они из своей пещеры. Даже по дороге старик умудрился вцепиться в мою лодыжку. Целлофан был уже снят, очевидно постарался кто-то из прислуги.
Той осенью мы походили на лилипутов, измученных трюками. Нередко, заработка ради, мы представали перед порочной камерой, дабы тешить охваченных казенной похотью незнакомцев. В чьих глазах отражались наши переплетенные тела? Думал ли кто-нибудь, глядя на нас: они мертвы, эту плоть пожирают выдры? Мы не могли не мечтать о косоротых стариках, распаленных благородством наших движений. Как они падают на колени, подползают к тумбам, лижут экран, как они прокручивают пленку назад, ставят на паузу, чтобы рассмотреть случайно схваченные камерой глаза сережи, тянущегося к моим губам, или его беззащитный локоть, или мочку уха, пробитую серебряной стрелкой. Ааааоооооуууууу! Вы, русские свиньи, съели нас, беззаботных детей, вы раскололи вол__шебные орехи. No mercy! Ни нашей красоты, ни нежности не хватило, чтобы утихомирить вас. Жертва была напрасной, нас бросили в топку, и мы сгорели так же невзрачно, как и все прежние коврижки. Визг скверно затормозившего трамвая накрыл наши стоны. Окна полуподвала, где нас пытали, насмерть залепили оберточной бумагой. Кодекс гибели изъяли из тюремной библиотеки, от нас скрывали правду. Лишь однажды робкая сойка влетела в приоткрытую форточку. Мы слушали ее щебет. Такие звуки, утверждает сережа, раздавались некогда в тироле. На лугу встретился робкий пастух, племянник хозяина постоялой хижины, где мы приклеились на ночлег. Да, интересуется маленький женя, ты чувствуешь, какие токи исходят от него, сколько потаенной печали в его взгляде? Вечером парень принес нам кипящее молоко. Ведь мы могли бы предложить ему поехать в зальцбург, дать ему денег. Он поступит в консерваторию, мы будем изредка, словно анонимные меломаны, приходить на уроки, внимать робким звукам, которые ему удается извлечь из колченогой дудки. Благодарность — прелюдия любви. Посвятить этому парню небольшой отрезок своей жизни, научить его всему: одеваться, говорить на хохдойч, смаковать вина. Но как же его отец, хмурый бауэр в кожаных шортах, отдаст ли он отпрыска на попечение незнакомцам? Этот вопрос остается без ответа; наутро мы уезжаем, так и не увидев парня. Либо спит, либо занят в мастерской, либо удавился. Отягощенные, мы поднимаемся в горы еще выше, где уже нет ничего примечательного, кроме овец, распятий и спортсменов. Только природа, обучающая юношей простоте и честности, способна подарить то, что мы упустили в русском сраме. Соблазнить — нет дела достойней, сладкая задача приручения скрашивает последние месяцы лихорадки; отрадно думать, что за гробом пойдет, в сонме прочих расплывчатых плакальщиков, безупречный юноша в черном. Это он, тот самый ланс? Какой ланс? Ну тот, о котором говорил сережа? Бог мой, как хорош. Дроги ползут, сверкают под колесами сибирские лужи. Билет в зальцбург заказан на следующее утро. Вечер ланс проводит в гостиничном баре, напивается, пробует снять официанта, но тот ускользает в тень. Любовь. Любовь. Он вспоминает грязный погост, холод мокрого ветра, просит еще водки. Что пить в этой стране? Всё остальное отравлено. Хотя мы охотнее полюбим ланса, пьющего игривый сидр, эликсир отрочества. Впрочем, это уже относится к обширной области безразличного. Нас теперь нет в этом мире, но в одной прихоти мы уступаем прежним чувствам: мы летим рядом с потертым аэрофлотом, смотрим на нашего друга в последний раз, незаметно дышим в его похмельное растерянное лицо, падаем вниз сквозь несметные облака. Когда же наступает его черед, а он восемнадцать лет спустя попадает в пасть карибской акулы, нам, бесплотным, уже нет до него никакого дела. Кто-то более расторопный встретит нежную тень у ворот нового бытия. Даже это, гордо отмечает илья, предусмотрено в кодексе гибели. Но как вытравить из памяти тот ужасный диалог, кажется прозвучавший среди бутылок? Я богат, и мне скучно. — А я беден, и мне весело, — равнодушно ответил красавец. Он отказался от приглашения на ужин, отказался от денег, отказался, паскуда, от всего. Нет смысла горевать, говорит роберт, всё же гордыня и слепота часто сопутствуют молодости. Лишь мы, покрытые судьбой, словно ржавчиной, можем понять тяжелую страсть, охватившую принца за ширмой. Вот он уже, вопреки своей воле, опускается на колени перед замызганной копией. Да, он готов распластаться у дребезжащих ног неудачника, кормить его зернами граната, словно драгоценного павлина. Мы слышим удары наивного сердца, подобные шлепкам палки по мокрому белью. Вот всё, чем он жил, обернулось сомнительным фарсом. Топчи же меня, топчи — молит он. В ответ его сначала осторожно, а затем всё сладострастней топчут и топчут.