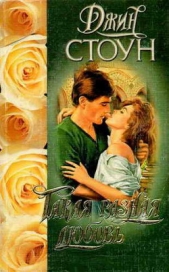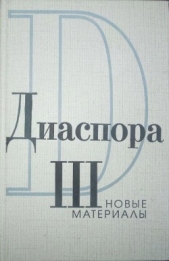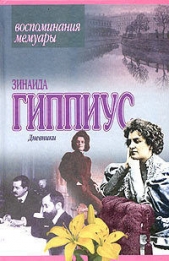Мечты и кошмар
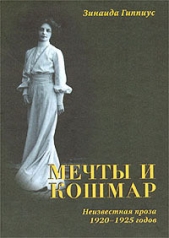
Мечты и кошмар читать книгу онлайн
Проза 3. Н. Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.
Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
П. — Что ж, не у всех вера обманута. Есть партия, которую вот до сих пор никакие «врата» одолеть не могут.
О. — Какая? Уж не с.-д. — большевиков ли? Коммунистическая? Да кто же не видит, что ее, как партии, давным-давно нет? Самая утопическая и сектантская — она первая погибла в катастрофе, которую сама вызвала. Погибла своеобразно, не спорю, но погибла вдвойне: и как партия, и как партия интеллигентская.
П. — Допустим… Но, знаете, вывод из всего этого получается печальный…
О. — О, вовсе нет! Вы забываете первое положение: русская интеллигенция есть непререкаемая, бесспорная ценность. Она была нужна России, нужна ей теперь и нужна в будущем. Ей не доставало школы; но посмотрите, какие суровые уроки она уже получила. Внутренние раздоры, рознь… не будем их преувеличивать. Я утверждаю, что интеллигенция — на пути к само-собиранью, к самоопределению, к некоторой организованности.
П. — Какому самоопределению? Политическому?
О. — Если угодно, и политическому тоже. Ведь понятие «политичности» очень широко в наше время. Даже обыватель аполитичен только умом; сердцем же политичен каждый. А увидите интеллигента, который жмется к стенке, вертится, «политикой, мол, не занимаюсь, моя хата с краю», — знайте: это он либо уж наметил себе какую-нибудь «крайнюю» хату, левую или правую, либо, если не наметил, все равно в которой-нибудь автоматически окажется; и это без различия, будь он раз — художник… Такое время.
П. — Уж не представляете ли вы себе какую-нибудь единую интеллигентскую «партию»?
О. — А вы не хотите ли поймать меня на таких мечтах? Нет, я говорю лишь об определенных возможностях. Просто о неизбежной реформации, которая в интеллигенции почти назрела. Что касается «политики», то я предполагаю, что эта сторона будет иметь одну и ту же окраску: центра. Фигурально говоря — интеллигенция все с большей силой чувствует, что сердце ее лежит теперь именно в центре, что жизнь и свобода России находятся между двумя смертями, двумя лжами: крайней «пра-востью» и крайней «левостью».
П. — Объединенный центр?
О. — Да, и я предвижу — заметьте, только скромно предвижу! — образование даже не одного, а двух центров. Вопреки математике, но зато в соответствии с требованиями жизни. Только два центра, если они будут расти органически, изнутри, способны, потенциально, захватить и обывательство, медленно его в себя вбирая. Лозунг же центральности сам по себе есть наилучшее ограждение с концов левого и правого. Он кажется слишком широким, но, при надлежащей и умелой формулировке, он делается тем главным, к чему детали уже прилагаются сами. Вряд ли центр более правый будет состоять из одних умеренных монархистов; я даже допускаю в нем социалиста, — известной складки. Но и в левом центре возможен кто-либо, предпочитающий английский строй — республике Платона что ли. Зато, наверно, очень многие не войдут ни в какое центральное объединение: этим и они определятся.
П. — И вы думаете, что ваши центры не начнут борьбу друг с другом?
О. — Спор, может быть… Но для борьбы — перед ними будут одни и те же враги. Я скорее предполагаю возможность, при случае, блока между ними… Говоря совсем откровенно — я иногда думаю, что такие «центры» уже существуют, и образование их будет, в сущности, только оформлением данного. Посмотрите: целые группы деятелей, фактически давно центральные, лишь по интеллигентской традиционности и застарелой робости перед открытым шагом, именуют себя по-прежнему и «делают вид», что объединены с теми, с кем вовсе уже и не соединены. Это связывает им руки, но долго так не может продолжаться. Однако… не слишком ли далеко зашли мы в предвиденьях и гаданьях? «Сложим крылья наших грез», как сказал один поэт, поступая на службу.
П. — Позвольте, но вот одно, что мне показалось странным. Вы, говоря об интеллигенции, все время подчеркивали ее здешние обязанности, ее чисто эмиграционные дела. Вы забыли, что все взоры наши обращены, главным образом, на Россию. Важно не то, что делается здесь, а что делается там.
О. — У нас были бы глаза мертвецов, если бы мы не смотрели «все в ту же сторону…». Но, откровенно говоря, как мы туда смотрим? Каждая группа и группка хочет уловить свой тон в совершающемся на родине, каждая надеется, в данном своем виде, вдруг, оказаться нужной — там. А как раз они-то, в эмиграционном анабиозе ждущие мановения «оттуда», его не дождутся. Они-то России и не понадобятся, ибо в своем месте, в свой час, не делали своих дел, побеждая свои препятствия. Бездомность, безродность, эмиграция — жернов на шее; ну, а кто весил, сколько пудов в жернове российском? Там, под жерновом, творится же свое, а мы, под нашим, и шевельнуться не хотим? Вот оно, интеллигентское пренебрежение к своему сегодняшнему дню, к «малым» делам, к постоянному усилию, ожидание, что обновишься сразу, «по благодати», и все как-то само устроится…
П. — Признаться, ваши обличения звучат убедительнее проектов чудесного устройства чудесной эмигрантской интеллигенции. Я, конечно, не политик, но что сказал бы политический «спец», вас послушав? Пожалуй, и возражений бы не удостоил ваши «центры».
О. — Это меня не смущает. Я смею думать, что не всегда глаза «спеца» видят дальше, чем глаза простого смертного, который не останавливается на сложностях. И наконец — посмотрим. Что и здесь, и в России, — русская интеллигенция нужна, что от России обновленной она, обновленная, неотделима и что вымереть ей не суждено, — в этом ведь никто не сомневается… Кроме тех, впрочем, кто ни в какой «центр» не пойдет и кому, действительно, суждено только вымереть: двум концам, справа и слева.
П. — Тут я совершенно согласен. Этим придется вымереть. Русскому нашему «ancien regime» и… ну, вы сами знаете кому.
ГОЛУБИНЫЕ КРЫЛЬЯ
Еп. Сергий, ректор Духовной Академии в Александро-Невской Лавре, предложил членам Рел. — Философских Собраний встретить праздник в академической церкви, на хорах.
Сергий (впоследствии Финляндский) — председатель наших собраний. Председатель не номинальный, а настоящий, на каждом собрании присутствующий, и нередко своею кротостью смиряющий страсти споров. Вице-председатель — другой Сергий, архимандрит, ректор семинарии.
Чудны дела! Мы до сих пор не можем опомниться: и как это нам с Собраниями, — удалось? Как это позволил Победоносцев иерархам председательствовать — на полутайных, правда, — но все же на «светских», да еще интеллигентских, Собраниях? И даже приват-доцентам и профессорам Академии разрешил на них бывать? Откуда это благостное попустительство? Неужели сурового властелина обошел хитрый мужичонка Скворцов (его чиновник особ, пор., миссионер)? Этого обошли, в свою очередь, мы, внушив, что тут лишь «миссия среди интеллигенции», и ему, Скворцову, предлежит легкое, но громкое, дело массового возвращения интеллигенции в лоно Православия. Как бы то ни было, мы, члены Собраний (публика не допускается), пока в фаворе, хотя нас много и становится все больше; и мы не так уже безгласны, позволяем себе спорить с самим Скворцовым и даже то и дело забиваем его в угол. Но он, к счастью, не пришел еще в уныние.
Еп. Сергий — прелестный, скромный, тихий русский человек. У него красноватое, широкое, добродушное лицо; блестят очки; русые волосы — вялыми прядками по плечам. Он так молод, что юные приват-доценты, «наши мальчики», как мы их зовем, все боятся, по ошибке, окликнуть его «Ваней»: он их однокашник.
Сергий-архимандрит — другого сорта. Тоже молод, но красив, строен, бледен (в Собраниях уж назревают его психопатки), с выхоленными руками в кольцах… У монаха? Да разве это им позволено? Не знаю, думаю, что нет, однако перстни его всеми замечены и всем запомнились.
Говорят, что он сух и зол. В семинарии его ненавидят, хотя и не до такой степени, как ненавидели архимандрита Антонина в одной провинциальной семинарии, где он еще совсем недавно был ректором. Этому — устроили там какую-то совсем неприятную историю, — чуть ли не наложили ему углей в нарочно закрытую печку, — и пришлось Антонина убрать. С тех пор он «покоится» в Лавре, рыскает по Петербургу в поношенной, узкой рясе, в поярковой шляпе. Собрания его «занозили»; не пропускает ни одного, познакомился с «интеллигентами», ходит в гости, без церемонии, хотя и без важности. Длинный-длинный, костлявый, худой, черный, с довольно страшными толстыми губами, с тяжелой нижней челюстью… Хвастается, что ни во что не верит, даже в самое существование Христа, и уверяет, что «саранча» в Апокалипсисе должна обозначать «мелкую прессу»…