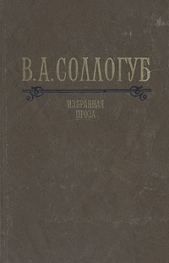Избранная проза

Избранная проза читать книгу онлайн
Людмил Стоянов — один из крупнейших современных болгарских писателей, академик, народный деятель культуры, Герой Социалистического Труда. Литературная и общественная деятельность Л. Стоянова необыкновенно многосторонняя: он известен как поэт, прозаик, драматург, публицист; в 30-е годы большую роль играла его антифашистская деятельность и пропаганда советской культуры; в наши дни Л. Стоянов — один из активнейших борцов за мир.
Повести и рассказы Л. Стоянова, включенные в настоящий сборник, принадлежат к наиболее заметным достижениям творчества писателя-реалиста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Началась жатва. С самой зари народ спешил в поле — страдная пора. Вдруг у меня пропал интерес к играм, я почувствовал себя одиноким, покинутым.
Ночью я горел как в лихорадке. Ворочался с боку на бок. Строил различные планы, а наутро они рассыпались. Замышлял убежать в город; чтобы там работать и учиться.
Усилия воли и надежда временами разгоняли тучи мрачных мыслей, наступало спокойствие и ясность. Почему бы нет! В кирпичной мастерской на Харманбаире уже работали Черныш и два других мальчика из нашего класса. Неужели я от них отстану?
Несколько дней я бродил по Харманбаиру возле кирпичной мастерской, и мне все казалось, что меня высмеют и прогонят. Дядя Киряк был человек строгий, в очках, с палкой, считался прижимистым хозяином, и рабочие его не любили. Да, в сущности, это была и не кирпичная мастерская, а производство самана, который замешивался из грязи и сушился в формах на жгучем фракийском солнце.
Дядя Киряк сидел на пустом ящике, с палкой между ногами, и курил. Выслушав меня, он поправил очки и сказал чуть-чуть насмешливо:
— А отец твой не будет ругаться?
— Ругаться? Почему? Разве лучше болтаться без дела?.. — ответил я пересохшим ртом.
— Хорошо, — прорычал он, подумав еще немного. — Хорошо… Условия: пятьдесят стотинок в день и обед. Утром с шести часов, пока сильно греет солнце, да после полудня… Это самое время для нашего ремесла. Мы любим солнце, сушь, а другие любят дождь… И бог не знает, кому угодить… Ладно, приходи завтра.
Вечером я сообщил матери, что нашел работу. Она покраснела, отбросила косы и сказала, глядя на меня испуганными глазами:
— Правда? Где?
— В кирпичной мастерской дяди Киряка.
Отец мой в этот день вернулся поздно. Был молчалив и хмур. Дела в селе шли неважно. Правительство было против касс взаимопомощи: ростовщики подняли вой. Среди ростовщиков ведь были и депутаты, и министры, и живодеры-подрядчики, и сельские кулаки… А народ живет в хлевах вместе со скотиной…
— Вот тебе и свободная Болгария, — закончил отец и плюнул.
Он широкими шагами ходил из угла в угол.
— Еще новость: турки будут переселяться в Анатолию. Я сказал Хюсеину-ходже: вы что, с ума сошли? Ведь там во сто раз большая бедность, чем здесь, сушь, почва каменистая… Горько, говорю, станете раскаиваться, но уже возврата не будет. Да, да… А наши дела поправятся, придут лучшие времена…
Мы сели за стол. Он молча начал есть. Но кусок словно застревал у него в горле. Посмотрел на меня и сказал серьезно:
— Начало хорошее. Дядя Киряк мне уже похвастался.
И он погладил меня по голове. За эту ласку я, кажется, был готов работать и день и ночь.
Утром я вставал на заре и спешил к Харманбаиру. Воду приходилось отводить по канаве издалека, от из-беглийских виноградников. Но разве без воды саман сделаешь? Поэтому дядя Киряк тут не скупился и платил за эту воду сторожам двух общин. Моя поденная плата равнялась цене двух штук самана, которые стоили пятьдесят стотинок, а сам я их вырабатывал в день двести штук…
Мною владело странное чувство, от которого я не мог отделаться. Казалось, что какая-то могучая и бурная река отделила меня от прежней жизни, что теперь я на другом берегу и ко мне уже никогда не вернутся беззаботные и радостные дни. Никогда, никогда… И эта новая жизнь стала мне привычной…
В конце недели я поспешил домой похвастаться тремя серебряными левами. Мать обняла меня своими слабыми руками и сказала тихим упавшим голосом:
— Ах ты, добытчик мой!
Она выглядела слабой, больной, заброшенной. Мне сделалось за нее больно, и я едва не расплакался.
Бабка Мерджанка легонько похлопала меня по плечу и тихо сказала:
— Ну-ка, милок, выйди, мы сейчас тут заняты.
Мать ждала четвертого ребенка, это оказался опять мальчик.
Третий братик появился на свет хилым и болезненным. Между моим отцом и крестным дядей Марином возник спор из-за имени. Отец мой говорил, что ему осточертели царские имена, а дядя Марин заступался за старых болгарских царей.
Дом крестного с широкой террасой был самым красивым во всем селе. В нем спали на кроватях. В глубине двора находились другие постройки — там стояли огромные чаны и бочки для приготовления вина и ракии. Еще дальше — печь и кухня. Здесь готовили пищу для множества народа — для косцов, жнецов, батраков и тех, кто работал на рисовых полях, бахчах и виноградниках, — все это под зорким наблюдением проворной тети Марии.
Посередине двора — колодец, за ним — длинный амбар. На заднем дворе были помещения для коров и лошадей, куриное царство и свинарник.
Сыновья — Пенчо и Янко — были полными хозяевами. Мать им ни в чем не отказывала, хотя дядя Марин возражал против такого метода воспитания. Дочь Ленче, высокая веснушчатая девочка, мне очень нравилась, и я часто о ней думал. Иногда я даже видел ее во сне: как будто мы вместе разглядываем картинки в какой-то книге. Она была моя ровесница, но мне казалось, что она куда умней и серьезнее меня. Даже веснушки на ее лице я находил прекрасными, может быть, потому, что они отличали ее от других девочек. Она кричала на свою мать, шалила, капризничала, и это тоже придавало ей в моих глазах какое-то необыкновенное очарование. А ее городские, до колен, платья словно были перенесены из сказки.
Но однажды произошло нечто странное. Мои чувства в корне изменились. Словно некий волшебник стер в моей душе образ Ленче и заменил его другим.
Было воскресенье, и я, усталый от работы в кирпичной мастерской, пошел с матерью в гости к крестному. Ленче не было дома, и моя радость сразу померкла.
Но вдруг где-то в глубине двора послышались девичьи голоса. Я отправился туда.
Навстречу мне выбежала Ленче, а за ней другая девочка с покрывалом на лице и в шальварах. При виде меня она смутилась и поспешно стала поправлять покрывало.
— Милко, — закричала Ленче, — давай в прятки!
Турчанка повернулась к нам спиной и завязывала покрывало.
— Джамиле, не бойся! Он еще маленький, — хлопнула ее по плечу Ленче.
Девочка действительно смутилась. Ее большие черные глаза с длинными, ресницами и тонкими изогнутыми бровями светились каким-то особенным блеском и искрились смехом.
— Давайте прячьтесь. Я первый буду водить! — сказал я как рыцарь и закрыл глаза ладонями.
Во дворе было много удобных мест, где можно спрятаться, и тот, кому доставалось искать, долго плутал, прежде чем найти остальных. А погоня по извилистым ходам была так забавна!
Мало-помалу Джамиле перестала меня стесняться, смотрела уже более доверчиво и не прятала улыбки.
Ей было лет двенадцать или даже меньше. Она была стройна и детски наивна, и когда я нашел ее в малиннике, она вскрикнула, засмеялась совсем по-дружески и бросилась по тропинке наутек. Я помчался за ней, и мы бежали между грядками мимо колодца, вниз к амбару. Несколько раз я ее почти догонял и уже готов был хлопнуть по спине, но она ловко уклонялась, как молодой тополек под напором ветра. Возле кучи сухих виноградных лоз она внезапно споткнулась и упала лицом в траву у самого чурбака для колки дров. Тотчас же она оглянулась на меня, и развязавшееся покрывало открыло мне яркую красоту ее лица — черную родинку на матовой щеке, розовые полураскрытые губы цвета только что распустившегося шиповника.
— Ушиблась? — наклонился я, испугавшись, и протянул ей руку.
Она ухватилась за нее, но так как была довольно тяжела, то не только не поддалась моему усилию, а перетянула и меня, и я, рухнув на колени, на миг почувствовал ее дыхание. Я тут же вскочил, и когда подбежала Ленче, мы вдвоем взяли ее за руки и, помирая со смеху, поставили на ноги.
— Ну и тяжелая же ты, Джамиле! — сказала Ленче.
Джамиле стояла вся красная, с откинутым покрывалом и, уже не стесняясь меня, на ломаном болгарском языке весело рассказала, как она споткнулась.
— Ничего, — сказала она, вытирая о шальвары тонкую струйку крови на левой руке. — Ничего, — засмеялась она, увидев, с каким испугом Ленче смотрит на кровь, — пустяки!