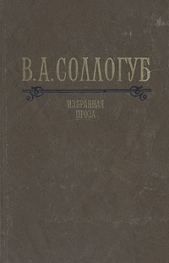Избранная проза

Избранная проза читать книгу онлайн
Людмил Стоянов — один из крупнейших современных болгарских писателей, академик, народный деятель культуры, Герой Социалистического Труда. Литературная и общественная деятельность Л. Стоянова необыкновенно многосторонняя: он известен как поэт, прозаик, драматург, публицист; в 30-е годы большую роль играла его антифашистская деятельность и пропаганда советской культуры; в наши дни Л. Стоянов — один из активнейших борцов за мир.
Повести и рассказы Л. Стоянова, включенные в настоящий сборник, принадлежат к наиболее заметным достижениям творчества писателя-реалиста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он на миг остановился… Его мысль работала… Ему показалось, что он сам себе противоречит, но все-таки он продолжал:
— И чего я достиг? Должности простого учителя. А ты со своим безрассудством и этого не достигнешь. Ты ни на что не способен, тебя даже в рассыльные не возьмут.
Я не верил ему. Мне становилось грустно, но почему-то казалось, что эти слова сказаны просто так, только чтобы меня запугать. На мой взгляд, я был не такой уж плохой, каким меня изображал мой отец. Я вел себя так же, как все мальчишки: они, как и я, старались удрать из дому для игр и бродяжничества. Кроме того, я чувствовал, что и во мне есть что-то хорошее. Это чувство было смутным, неопределенным, детским, но в то же время утешительным…
Я понимал огорчение отца. Он хотел, чтобы я сидел дома, помогал матери, смотрел за Асенчо…
Отцовский кашель слышался еще с улицы. Мне было так его жаль… Когда он приехал из больницы, его трудно было узнать. Моей матери и возчику пришлось помогать ему слезть с телеги. Он выпрямился и сказал, вероятно, чтобы успокоить маму:
— Слава богу, прошло… Скажи спасибо, что не оказалось ничего худшего.
В больнице за ним ухаживали хорошо, — он не мог пожаловаться. О нем слышали — про тополовского учителя, организовавшего среди крестьян кассы взаимопомощи, писали в газетах. Болезнь у него не опасная — бронхит требует только ухода и хорошего питания… Необходимо перевестись учителем в другое село — здесь низко и сыро… Так он рассказывал, и его громкий кашель отдавался да соседней улице.
Я увидел, как мама помрачнела. Переезжать в другое село, где другие люди, незнакомые, чужие, когда здесь кругом близкие, подруги, — для нее эта мысль была невыносимой.
Отец решил предпринять летом путешествие к Рильскому монастырю и побыть там, чтобы полечиться воздухом… Он рассчитывал, что это его укрепит и даст ему силы победить болезнь. Это обсуждали несколько раз, и однажды отец сказал мне мимоходом:
— Можешь и ты поехать, посмотреть мир…
В тот же день я рассказал товарищам радостную новость. Уйти от этих болот, от летнего зноя и пылищи — отец прав, — как это будет прекрасно… Увидеть новые места, реки, горы…
Значит, отец не считает меня таким уж пропащим, если решил взять с собой и вообще обращается как с равным…
Я услышал, как вскоре мать сказала отцу:
— Я согласна есть только хлеб с солью, но в другое село не поеду.
Он ответил:
— Да и я тоже не хочу уезжать, но если придется…
И тут я понял, что и Рильский монастырь — еще одна несбывшаяся мечта.
Вопрос разрешился неожиданно. Учитель Мимидичков из соседнего села Избеглий, отстоящего от нас в часе ходьбы, задумал перемениться местами с моим отцом. Там был лес, отроги Родопских гор доходили до самых его полей… Почему не попробовать? При этом не требовалось перевозить семью: воскресенье и праздники отец мог проводить с нами, как будто никуда не переселялся… Но отец не торопился с решением.
Он несколько раз ходил в Избеглий, познакомился с людьми, со старостой. Говорил как бы про себя:
— Пустые разговоры… Все то же самое, что и здесь, — и люди и школа…
Его душил мучительный кашель.
Приближался конец молотьбы. На гумнах лежали кучи соломы, груды пшеницы. Тарахтели веялки, на досках конных молотилок стояли, выпрямившись, мужчины и подхлестывали коней. Первый год работала паровая молотилка — собственность крестного дяди Марина. Она гудела с утра до вечера, и люди приходили поглядеть на это чудо, цокали языками и не верили своим глазам — зерно текло из нее рекой.
Пенчо ведет меня посмотреть молотилку. Она работает высоко на Харманбаире, где находятся самые большие гумна. Мы идем мимо бахчей, по узкому деревянному мосту, мимо цыганского квартала… Солнце печет, земля вся в трещинах.
С Харманбаира открывается затянутый мглой горизонт. Вся фракийская равнина потонула в пыли. Воздух трепещет от зноя. В небе на одном месте парит одинокий ястреб. Увидев его, куры и цыплята бегут прятаться возле гумна.
У Пенчо уже есть велосипед, но он оставил его дома. Он водит меня вокруг молотилки, показывает, как она работает. Механик-чех что-то говорит. Но я понял только одно, что это «опасно». Он показывает свою левую руку, на которой не хватает половины большого пальца.
Пенчо, как и я, в рубашке, в коротких штанах, босой. Целые дни он проводил на гумне, помогая работать. Тогда почему же его отец бранил его и говорил, что он бездельник, лентяй? Часто повторял из хрестоматии: «Эй, Пенчо, читай, Пенчо не читает, Пенчо, работай, Пенчо тоже не хочет. Время идет, Пенчо вырос, хочет есть, а взять неоткуда».
«Ты думаешь, тебе все с неба упадет? — вспомнил я слова крестного. — Так и останешься болваном, и никто гроша за тебя не даст. Помяни мое слово!»
Как будто все отцы сговорились — твердят одно и то же.
Пенчо испуганно:
— Ой, солнце скрылось…
Действительно, неожиданная туча заслонила солнце. Сразу дохнуло холодом, над гумном поднялся вихрь.
Харманбаир, сухой, пожелтевший, потонул в пыли и мякине. Шум молотилки заглох, человеческие голоса стали слышнее.
Солнце пробило тучу, и свет расстелился по обгорелой земле, как огромное желтое одеяло. Потом опять поплыли тени.
В глубине равнины, с востока, поднималась черная стена, которая росла все выше. Народ заторопился, стал покрывать зерно мешками, ряднами, брезентом.
Внезапно темную стену прорезала молния. Но она сверкнула далеко, у самого горизонта, так что грома не было слышно.
Из-за гребня Родопского хребта выскочили круглые плотные облака, как крупные белые откормленные поросята, и стремительно понеслись в нашу сторону.
Между тем черная стена с востока приближалась. Она соединилась с облаками, летящими с юга, и достигла середины неба. Молния причудливым зигзагом разодрала небосвод сверху донизу. В тот же миг нас оглушил страшный гром и почти толкнул на кучу соломы. Новые молнии и новые раскаты грома друг за другом выскакивали из недр небосвода, как из огненной печи, — сталкивались с яростью и ожесточением и, обессиленные, падали на землю. Нам чудилось, что это какие-то дикие стада наперегонки мчались во мгле по небесной равнине, достигали зенита, свергались оттуда в пропасть, и от топота бесчисленных копыт дрожала земля.
Застучали первые дождевые капли — крупные, плотные, тяжелые, как свинец. Люди спешили прикрыться чем попало, мешками, пиджаками… Тем, кто торопился спрятаться под копнами или под молотилкой, механик-чех кричал: «Не, не!» — потому что там опасно.
В бескрайней дали, из огромных тяжелых туч, дождь лил потоками. Вдруг там просветлело, словно дождь смыл сажу и висящую в воздухе пыль, и глазу открылась равнина, широкая и свободная, с тополями и вербами вдоль реки, с селами и со светлой лентой Марицы, которая, извиваясь, пропадает в тумане бог знает где…
Все произошло так неожиданно, что мы не знали, что делать. Широко открытыми глазами мы смотрели на поединок стихий — одинокие и брошенные, как травинки в поле.
Теперь уже дождь с бешеной силой хлынул рядом с нами, и тотчас же завыл ветер. С холма потекли мутные потоки желтой и липкой воды. Она залила трещины в земле и помчалась по склону к болотам.
Над нашими головами раздавались все новые и новые раскаты грома, молнии пересекались, и все небо, темное, беспросветное, выглядело устрашающе. Дождь промочил мешки, которыми мы были прикрыты, и рубашки и потек по спинам.
Ветер хлестал нас в лицо, и мы решили, что самое благоразумное бежать домой, так как дождь и гроза усиливались.
Единственное дерево на Харманбаире — столетний серебристый тополь беспомощно простирал свои ветви, как слабые руки, навстречу ветру и дождю, склонялся, выпрямлялся и снова грозно размахивал ветвями, как будто готов был издать дикое нечеловеческое проклятие.
Мы спускались по мокрой желтой траве, по грязной дороге уже без страха, так как помнили пословицу: «Мокрый дождя не боится».