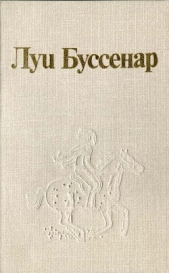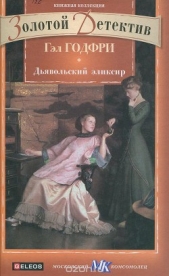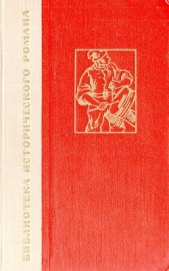История одного крестьянина. Том 1
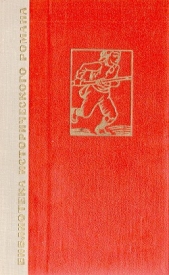
История одного крестьянина. Том 1 читать книгу онлайн
Тетралогия (1868–70) Эркмана-Шатриана, состоящая из романов «Генеральные Штаты», «Отечество в опасности», «Первый год республики» и «Гражданин Бонапарт».
Написана в форме воспоминаний 100-летнего лотарингского крестьянина Мишеля Бастьена, поступившего волонтером во французскую республиканскую армию и принимавшего участие в подавлении Вандейского восстания и беззакониях, творимых якобинцами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И все это они называют политикой. Разве господь бог наш Иисус Христос преследовал политические цели? Если б он придерживался политики, он не дал бы распять себя ради спасения несчастных. Неужели же он, потомок Давида, не мог заодно с властителями пойти против народа? Разве он не мог бы послушаться демона гордыни, говорившего ему на вершине горы: «Взгляни на край этот, селенья эти, на реки и горы. Стоит тебе преклониться передо мною, и все — твое». Поверьте, де Роган и все прочие на его месте немедля пали бы ниц. Но создатель политикой не занимался. И я, бедный сельский пастырь, послушен ему и беру в пример его, а не высокомерных епископов, живущих под стать язычникам. Да, я всегда буду послушен одному лишь Евангелию и никогда не пойду на сделку с чужеземцем.
Он побледнел и умолк. Его брат, великан Матерн из деревни Гуп, протянул ему руку со словами:
— Ты прав, Кристоф. Мы всегда будем верны творцу нашему Иисусу Христу и будем против кардинала де Рогана… Я его видел. Он был с женщиной, а она — жена другого. Какая мерзость!
И все горцы осенили себя крестным знамением, меня же пробрала дрожь. А дядюшка Жан сказал:
— Да, много мы видели мерзких выходок. Но народ сберег веру свою, несмотря на всех этих негодяев. Ошибаются они, воображая, что их повеления после всего, что было, непреложны, как Евангелие.
— Именно так, — сказал г-н Кристоф, — больше нет у нас к ним уважения. Но знайте, скоро они примутся клеветать на бедных священников, которые подчинились закону своей страны, приняв присягу. Они объявят их отступниками. Много еще нам предстоит выстрадать. Но если все: отец, мать, братья, сестры, друзья — словом, все и покинут меня, я все равно буду верен господу богу и совесть моя будет чиста. Остальное мне безразлично. Только одного я хочу, чтобы люди эти, политика которых ведет к смуте и междоусобной войне, не погубили нашего короля, несчастную королеву и тех, кто их окружает. А если уж народ ринется в бой, то его натиск превзойдет все ожидания. Ну, а если уж прольются реки крови, в этом будет их вина, ибо, запрещая священникам принимать присягу, они вводят в сомнение народ, отдаляют священников от паствы, заставляют честных людей смотреть на религию как на заклятого врага свободы, равенства и братства и всех великих христианских устоев, возвещенных новой конституцией. И бог знает, что из-за этого может произойти в дни смуты.
Так говорил этот мужественный человек. А спустя два года, в 93-м, когда я видел телеги, отвозившие на гильотину женщин, стариков, священников, горожан, мастеровых, крестьян, не раз я повторял про себя:
«Вот она, политика епископов и эмигрантов!»
Кардинал де Роган, граф д’Артуа и их приверженцы были тогда по другую сторону Рейна, а князья церкви в Констанце занимались толкованием Апокалипсиса, посматривали издалека, но сами не появились в Вандее и на юге, где священники, отказавшиеся принести присягу, смело шли во главе мятежников крестьян [124]. Наверно, они думали так: ну и дурачье же этот народ — подставляют себя ради нас под удары. И это правда, несчастные крестьяне запада могли бы начертать на своих знаменах: «Рабство, невежество и нищета!» — ибо они все это и защищали в борьбе.
Два-три раза граф д’Артуа объявлял, что встанет во главе вандейцев; он подплывал на английском судне, но, когда крестьяне подняли мятеж, когда все было объято пожаром и до него донеслись залпы республиканских пушек, храбрец поспешил наутек, бросив обреченных в одиночку сражаться за его божественное право. Дальше вы это увидите — свет не знал еще такой подлости!
Помнится, мы просидели у г-на Кристофа часов до двух, разговаривая о присяге и о других делах нашего народа. Затем гости из Гупа заторопились домой, чтобы вернуться затемно, — дорога была дальняя. Взяв дубинки и пожав всем руки, они отправились в путь. Мы пошли домой, а Кристоф — в церковь, служить вечерею.
На перевале стоял собачий холод. Крестный, ускоряя шаги, оживленно говорил:
— Все идет хорошо, Мишель. Капуцины промахнулись. Мои земли в Пикхольце с позавчерашнего дня поднялись в цене.
А я все размышлял о словах господина Кристофа. То, что он сказал о политике князей церкви и эмигрантов, заставило меня призадуматься: будущее не сулило ничего хорошего.
Глава пятая
К этому времени у нас в кузнице тоже произошли большие изменения, о чем я должен вам рассказать поподробнее, ибо они послужили для благоденствия моей жизни, несмотря на все огорчения первых дней.
Я еще не говорил, что Валентин столовался у нашего соседа старика Риго. Его забавляло, что старая чета по всякому поводу величала его господином Валентином. При его взглядах на различие в рангах эти знаки уважения доставляли ему удовольствие. Как только вечером он садился в кресло у стола, вытянув ноги, обутые в изношенные башмаки, перед ним ставили пышную яичницу с салом или жаркое, справа стакан с вином, слева графин с водой. Старики хозяева стояли по другую сторону стола, облупливали вареную картошку и ели простоквашу. Валентин находил, что все это в порядке вещей — ведь он был первым подмастерьем кузнеца, — и, должно быть, думал так:
«Я человек другого ранга, чем эти Риго; вот поэтому я ем вкусную еду, а они только ее нюхают».
Когда у Риго выпекался хлеб, а это бывало раз в две-три недели, он заставлял печь ему отдельно две сдобные лепешки на масле и приглашал меня полакомиться. Он откупоривал бутылку лотарингского хмельного вина, которое хранилось у него в погребе. Никогда ему не приходила мысль угостить папашу Риго стаканчиком вина. Мне это было очень неприятно, тем более что старики посматривали на нас с завистью; но я не решался сказать об этом Валентину, его бы возмутило, что я не способен с честью поддерживать звание кузнеца, и, пожалуй, он бы уж меня больше не приглашал.
Иногда он звал и моего братишку Этьена, который заранее поводил своим лоснящимся носиком, учуяв запах лепешек. Мы посмеивались над его аппетитом. Валентин очень любил Этьена и открывал ему по воскресеньям после вечерни все тайны приманки птиц, прикорма и прирученья пернатых. Он был без ума от птиц, охотник был полакомиться мясом синиц и дроздов, послушать пение малиновок и соловьев — вот в чем заключалось его счастье. К концу июля его жилье на втором этаже дома Риго было полно птиц, пойманных в лесу; стекла окон были перепачканы. Он держал сотни птиц всяческих пород: тех, что кормятся червячками и мошками, как соловей и коноплянки, он выпускал до наступления зимы, других, что питаются семенами, он оставлял. С трудом пробираешься, бывало, по сеням в его каморку под крышей: пол усеян сухими головками мака, коноплей; какие-то комочки свисают с перекладин; он сам высеивал семена для подкорма птиц на клочке земли позади дома.
Так он и жил. Зимой, в пору дождей, он сам заготовлял силки, всякие западни, петли для ловли птиц и только и говорил о перелете дроздов, прилете синиц и о том, сколько он надеется поймать птах в этом году.
До революции он никогда и не говорил ни о чем другом, кроме птиц, и всегда был весел; но со времени Генеральных штатов впал в дурное расположение духа и стал придирчивым. Всякий раз, когда мы за беседой проводили вечер вместе, он, прилаживая манки для птиц, все время жаловался на чванство и глупость хозяина Жака, кричал, пожимая плечами:
— Да он чушь несет: только и мечтает, чтобы сапожники стали полковниками, дровосеки — принцами, а кузнецы Жаны депутатами. Воображает, что таким патриотам, как он, море по колено, что уже владеет лесами монсеньера кардинала-епископа и уплатил за них ассигнатами. Его нисколько не беспокоит ни отлучение от церкви, ни бесчисленная королевская армия, ни поддержка христианского мира.
Он язвительно усмехался и даже в кузнице давал волю языку, отпуская злые, едкие замечания о Национальном собрании, национальной гвардии и всех тех, кто стоял за народ. Крестному, принужденному все это выслушивать, было очень неприятно держать такого подручного — человека, мешавшего ему свободно высказывать мнение о дворянах и епископах. Он сдерживался, как мог; но в те дни, когда до нас доходили плохие вести, он раздувал щеки и, пощелкав языком, восклицал, не называя имен: