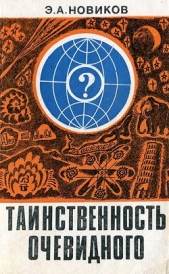Золотые кресты

Золотые кресты читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бог знает, как бы и дальше все протекало в мирном быту Крутицких-на-Сухаревке (были еще Крутицкие-на-Головлеве), и присных им, близких, если бы в смену весен и зим не ворвались другие, мировые, катастрофические: война, революция, общие какие-то, в недрах душ закипевшие кратеры. Было нарушено все: и путь углубленности, прозрачного некоего прозрения в жизнь — для старших членов семьи, и спокойного сочного роста для юности.
И сейчас не все еще ясно в общей участи наших скромных героев, но судьба иных уже завершена…
V Многое переменилось за последние годы и в жизни маленького индийского принца на Сухаревке.
Подрастал с другими и он, но не слишком. В четырнадцать лет можно было дать Груне, пожалуй, не больше одиннадцати. Бабка Маланья становилась все плоше, редко слезала с печи, только за крайней нуждой, охала и причитала; все хозяйство по дому лежало на Груне, нелегкое, в общем, житье.
Но все еще ничего, покуда был в доме отец. Не был Никита, по прозвищу Рыжий, щедро одарен судьбой: косноязычил, угрюмо и мрачно ленился, тосковал без спиртного, а когда случалось достать в базарные дни мутной в бутылке отравы, быстро хмелел и вяло и беспорядочно буйствовал.
У Груни тогда одни были мысли: поскорей уложите на коннике под образа это громоздкое, нетвердо по хате ступавшее тело; она становилась на цыпочки, брала отца высоко под мышки и вела его, с трудом сдерживая готовую на нее рухнуть тяжесть. Отец скашивал голову, неодобрительно что-то мычал, коричневая пенка корявилась у губ, отдельные волоски из усов к ней припеклись. Свалившись на конник, он затихал, Груня подсовывала ему повыше подушку без наволочки и покрывала тулупом, отец наморщивал лоб и глядел на нее. Способность произносить членораздельные звуки почти вовсе его покидала, но он старательно кривил угол рта и, видимо, силился что-то сказать; ничего из этих попыток не выходило. Время от времени Груня брала полотенце и вытирала концом его с наволочки пенистую отцову слюну. Потом, подождав, пока отец не заснет, тихонько ложилась сама в уголку около печки.
Наутро Никита редко, сквозь зубы, поругивался, и вид имел сумрачный и виноватый. Груня также была с ним притворно груба и непритворно ласкова; охотно и весело, с уверенными, так не идущими к ее сутулым плечам движениями, резала она хлеб на столе и из сенец несла самовар, широко раздвинувши локти. Она скупо и крепко отвечала отцу, стыдила и с радостью видела его виноватость за невнятными его и смущенными ругательствами. Потом отец, попивши чайку, поднимался и, надевши тулуп, хлопал Груню в дверях по спине, она деловито ему отвечала: «Ну, ну, иди, леший, не выспался, знать!»
— и торопливо, радостными шажками, захлопнув дверь, возвращалась в избу.
Она и жалела отца, и гордилась им: все-таки был он настоящий мужик, случалось, что он веселел и без хмеля, с ним в избе было полно.
Да вот и сейчас… Бабка затихла, в низкие окна весело манится солнце, забот по хозяйству — только отпихивайся! И все-таки есть хоть минутка даже взглянуть в базарное зеркальце, чисто-начисто вытертое от мушиных засидок, подергать косички, пригладить височки на лбу… Минутное дело! И уже хлопотливою мышкой, с быстрою песенкой, домовито хлопочет по всем веселым углам своей невеселой избы девочка Груня.
Но скоро все круто переменилось, отца призвали в солдаты, а через месяц и бабка Маланья приказала своим однодеревенцам долго жить и здравствовать в ожидании лучших времен. Ах, как Груне было тоскливо провожать бородатого своего отца на станцию в город! Он ослабел и размяк, мало в нем было солдатского.
— Ну, дожидайся, дочка, меня, бабку гляди.
Больше он ничего не сумел ей сказать, влез на подножку теплушки, и когда тронулся поезд с гиканьем, свистом, а Груня осталась одна и, не отрываясь, глядела вслед, видела она только отцовскую спину.
И бабку Груня не доглядела. Шел дождь, холодный, осенний, девочка и сама проспала — вчера только к вечеру вынула хлебы из печки, устала — а когда потянулась с корочкой свежей ковриги к старухе, та не ответила ей и на жаркой печи была холодна.
Груня осталась одна, бесприютная. Не раз заходила она и на барский двор, там были с ней ласковы, Прасковья сажала в кухне на лавку, подкармливала, жалела ее и доводила до слез.
— Пропадешь теперь, девка, ни за грош пропадешь! Гляди, и отца там застукают…
Девочек не было в доме, кончились детские годы, и только Ирина в письмах из института не забывала ее и слала поклоны.
Груне с зимою стало невыносимо бобылкой в опустевшей своей, часто нетопленной хате. Но нашлись и пристроили Груню добрые люди; правда, что тетка и дядя, жившие с ней по соседству, соблюдали при этом и прямую житейскую выгоду: корову и корм, и кое-какие убранства домашние взяли к себе, избу Никитину заколотили, а Груню тетка сама отвезла на услужение в город.
Груня там прожила у купца около года. К этому времени прошел по округе слух, что Никита еще с самой зимы в немецком плену, а может, и вовсе убит, писем не посылает давно.
В деревне все буйно шумело, кипело, из городов наезжали неизвестные люди, по ночам на горизонте пылали усадьбы: семнадцатый год.
Крутицких покуда не трогали, все их богатства, скудные, скромные, были взяты на опись; была тишина в сиротевшей усадьбе, горьким дымком осталась горечь в душе у оставшихся старших.
Шли нелады и у крестьян между собою. Так, в Сетеневе на сходе скопом крестьяне убили трех братьев Домашневых за то, что у них оказалось владение в тридцать пять десятин. Непрочно и на отлете повсюду чувствовали себя и однодворцы.
Между прочим, склонялись крестьяне к тому, чтобы столичных никак к земле не допускать: было в той местности много народу в отъезде, на заработках. И, кажется, не без этого потайного и дальновидного соображения, сметливая Грушина родня проявила новую о девочке заботу. Тетка сначала написала куда-то письмо, потом поехала в город, взяла племянницу у купца и, опять же сама, отвезла ее четвертым классом в Москву, к знакомой куме.
VI Осень семнадцатого года не была холодна. Чудесный сентябрь сменили, хотя и сырые, но теплые октябрьские дни.
Москва не была весела, застили солнце не столько холодные тучи, сколько тягота, тревоги, не находящее выхода раздражение.
Лена Крутицкая, не кончив гимназии, — тому скоро два года — уехала почти что тайком, письма с фронта ее были сначала бодры, позже стали унылы, теперь совсем замолчала. Таня вот уже третий год на курсах в Москве. В эту осень ее не пускали, но она все же уехала. Были тому причины особые.
Таню теперь не узнать. Не слишком красивая, несколько вялая в движеньях и взоре в отроческие свои, испепеляющие годы, шла сегодня она по Полянке высокой изящною барышней, светло дымилось под шляпкой золото вьющихся легких волос, на бархатной шапочке, по моде той осени, желтела розетка, под цвет волосам, угловатая — в каком-то соответствии с самым характером Тани, не утратившим острых причуд; сама она выбирала ее, да и сейчас шла от портнихи, с Замоскворечья.
На Каменном мосту, у перил, Таня остановилась в задумчивости. Впереди возвышался Кремль, четкий, строгий и нежный, под ногами катилась густая со снегом вода, тяжело-медленная, воздух был сыр, мягок; точно вуаль пала на душу. Но была та вуаль веселыми заткана желтыми точками, солнечной сеткой. Не удивимся: Таня была молода и Таня любила.
Дома об этом не знали, хотя отец и подсмеивался сквозь горечь разлуки в это тревожное время над внезапною Таниной страстью к паукам, чем раньше она отнюдь не грешила.
Пришло это чувство для Тани внезапно и заполнило юную душу ее весенней сумятицей, рокотом гроз по влажному небу, с летучею их, дымной грядой облаков. Пусть на дворе хмурая осень, и Таня не дома между своих скромных аллеек, но все это, с чем она выросла, с нею, в груди, неотъемлемое. И пусть, как казалось порою, не просто настал: и укрепился на земных наших пажитях век, непохожий на ряд своих предков, круто порвавший с фамильным родством, но и из этого века на долю Таниной юности выпали самые те годы крутые, когда с таким треском ломается старая стройка… И все же любовь вечно пребудет любовью, а краски ее те же, что краски души, и вся целиком, в своих проявлениях, ложится она в родимый пейзаж.