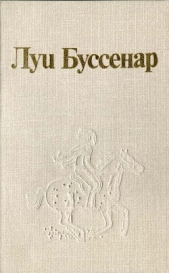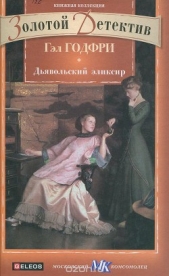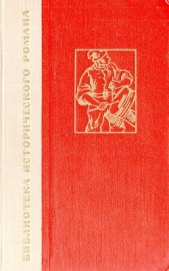История одного крестьянина. Том 1
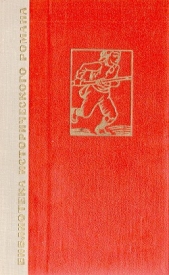
История одного крестьянина. Том 1 читать книгу онлайн
Тетралогия (1868–70) Эркмана-Шатриана, состоящая из романов «Генеральные Штаты», «Отечество в опасности», «Первый год республики» и «Гражданин Бонапарт».
Написана в форме воспоминаний 100-летнего лотарингского крестьянина Мишеля Бастьена, поступившего волонтером во французскую республиканскую армию и принимавшего участие в подавлении Вандейского восстания и беззакониях, творимых якобинцами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У меня цела Красная книга, и я бы вам рассказал обо всем подробнее, да история очень уж длинная.
Валентин кричал, что Шовель и его дружки, мол, сочинили Красную книгу, чтобы обесчестить дворян. Что поделать? Если человек от природы слеп, то пусть солнце с ног до головы зальет его светом, а ему все равно ни зги не видать, и никакие объяснения уж тут не помогут.
В том месяце, то есть в сентябре, 1790 года Людовик XVI дал отставку Неккеру: после победы Буйе король полагал, что тот ему больше не нужен. Одни считали Неккера негодяем, потому что он тоже наделял своих приятелей пенсионами и долго противился распространению Красной книги. Остальные же, вроде дядюшки Жана, говорили, что всегда следует взвешивать добро и зло, содеянные человеком, что Неккер сам не обогатился, как обогатился кардинал Бриенн, и что если б Неккер не обнародовал своего отчета в 1778 году, то революция не наступила бы так быстро, и обо всем этом народу должно помнить. Я тоже считаю, что он был прав. Во всяком случае, после отставки Неккера Людовик XVI только и слушал одних лишь врагов революции, они толкали его по скользкой дорожке, и он катился с такою скоростью, что два года спустя оказался на краю пропасти.
Впрочем, об этом речь впереди. Забегать вперед не стоит.
В конце сентября 1790 года мы наконец получили ответное письмо от Маргариты вместе с большим пакетом газет. Вот оно, письмо, — я перепишу его слово в слово: радостно будет мне вспомнить дни молодости, и к тому же каждый из вас узнает, что происходило тогда в Париже; как люди там жили и что думали о короле, о Буйе, об эмигрантах, о клубе и о Национальном собрании. Так рассказать обо всем этом мне бы не удалось.
«Мой славный Мишель! Мы получили твое письмо и корзину с чудесными яблоками, вкусными колбасами и прекрасным вином. Ты нам доставил превеликое удовольствие, хоть и печален твой рассказ обо всем, что у вас происходит.
Не следует падать духом, напротив, надо бодриться. Чем сильнее аристократы запутаются, тем скорее мы от них освободимся. Изо дня в день все больше раскрываются глаза народа, а когда народ настойчиво добивается цели, всем его бедам наступает конец. Батюшка очень много работает в Национальном собрании и в клубе Якобинцев. Вот он и поручил мне поблагодарить тебя, соседа Жана, тетушку Катрину и всех, кто хотел послать нам гостинцы. С радостью я пишу вам: давно уже собиралась сделать это. Отец в своих длинных письмах на шести страницах пишет вам только о делах Национального собрания и о делах страны. Для соседа Жана, Летюмье и всех остальных это, разумеется, всего интереснее. Но тетушке Катрине, Николь и даже тебе, я уверена, хотелось бы также знать, как мы здесь живем, в каком месте поселились, что я делаю по утрам и вечерам, сколько стоит масло и яйца на рынке; рано ли встают здесь и собираются ли по вечерам, — словом, как нам живется.
Вот я и опишу все, что мне придет в голову, расскажу обо всем, и вы как бы перенесетесь к нам, увидите различие между Лачугами и Парижем. Займет это у меня много времени. Ведь за год и три месяца, которые я пробыла здесь, я много всего передумала о жизни. Но все равно, читать тебе не наскучит, милый мой Мишель, а мне будет казаться, будто мы с тобой разговариваем, сидя за печкой в харчевне «Трех голубей».
Начну с того, что поселились мы на шестом этаже превысокого дома, — он вроде башни в Го-Бар. А повыше живет семья сапожника. Жизнь идет на всех этажах: кто ткет, кто шьет, один сосед донимает нас музыкой, а другой занимается делами, и у него на двери вывешена табличка: «Г-н Жак Пишо, судебный пристав при Шатле». Лестница тут витая, скользкая, темная; живем все мы в одном доме, а друг с другом не знакомы. До тебя никому дела нет; сосед пройдет мимо и даже не посмотрит, не поздоровается. Так водится во всех парижских домах! Внизу, вдоль улиц, пока хватает глаз, тянутся лавки, мастерские, магазины с вывесками: вывески сапожников, бакалейщиков, жестянщиков, фруктовщиков и всех прочих.
Дома серые, улицы залиты черной грязью; множество всяких экипажей: «кукушки», коляски с откидным верхом, ландо, кареты, повозки разного вида — округлые, квадратные, продолговатые; на телегах — груды всяких отбросов, а на запятках экипажей великолепные лакеи. С утра до вечера все в движении, будто по улице поток несется. Со всех сторон слышишь выкрики разносчиков: они задирают головы — посмотреть, не подаст ли кто из окна знак подняться. Тут и торговцы водой, и старьевщики, и зеленщики, подталкивающие тележки с овощами, и продавцы игрушек и всякой всячины, лишь для того и придуманной, чтобы вытянуть из твоего кармана деньги. Здесь все продается, всякий товар выкрикивается. Газетчики с ворохом газет под мышкой взбегают по лестнице в дома, входят в кофейни, останавливают тебя на перекрестке улиц, залепленных разноцветными афишами, суют тебе под нос газеты.
Невнятный гул раздается по всему городу с самой зари, даже раньше, и вплоть до полуночи, даже часов до двух утра. А в три — снова шум. Между двумя и тремя часами — у тебя передышка: водворяется тишина, разве только проедет коляска врача или патруль подберет пьяного на улице. Наконец-то — тишина, но ненадолго. Не думайте, что вас разбудит петушиный крик или лай собаки соседа Риго, как в Лачугах, — нет, разбудит вас грохот телег: это крестьяне повезут товар на соседний рынок. Иной раз заревет осел, зазвенят бубенчики на лошадях. Весь этот люд едет на телегах из селений, расположенных в двух-трех лье от Парижа; мужчины правят, а женщины восседают среди корзин с овощами, яйцами, маслом и всякими другими припасами. Еще совсем темно, а уже хлопают кнуты, мужчины хрипло кричат «но-но», шум все усиливается, превращается в неумолчный гул и не смолкает весь день.
Но все, что я вам описала, — только крупица жизни огромного Парижа. Дело в том, что жителей здесь семьсот тысяч с лишним — люди всякого рода, от богачей до нищих, да еще ежедневно сюда наезжают около ста тысяч человек со всей Франции и из предместья, заполняют товаром рынки, базары, лавки и погреба. Вот почему голод здесь так страшен, когда подвоз продовольствия задерживается на несколько дней. Ведь у большинства жителей припасено совсем немного хлеба, дров, растительного масла, чуть-чуть вина. И ничего больше. Их подстерегает нищета, да такая лютая, что даже у нас самой суровой зимой такой ты себе не представишь. Бывает, где-нибудь над тобой, хоть ты этого и не знаешь, дрожат от холода и умирают от голода целые семьи. Но жаловаться люди не идут — в этом огромном городе живут отчужденно. Да и порою бедняки бывают гордецами.
Но, пожалуй, не стоит рассказывать об этом, милый мой Мишель! Мы-то с тобой хорошо знаем, что значит быть бедным, мучиться, работая на других; знаем также, что значит видеть нищету и не иметь возможности помочь. Очень это тяжко.
Теперь ты представляешь себе, как живется в Париже. Здесь можешь ходить часами и, куда ни пойдешь, повсюду видишь те же серые дома, те же грязные улицы, одни поуже, другие пошире, — вот и все; те же ряды лавок, поток тех же экипажей и толпы тех же горластых разносчиков. То тут, то там попадается площадь пообширнее, с водоемом, вокруг толпятся женщины и водовозы. Попадаются высокие здания, наподобие дворца кардинала де Рогана в Саверне, или мост, рынок, театр — и все это производит невеселое впечатление. Зимою грязь доходит до щиколоток, снег то и дело тает, все покрыто завесой тумана, и тебе становится тоскливо, даже когда сидишь подле камелька. Да, все тут не так, как в наших краях, где снег белеет на плетнях и деревьях, яркий свет слепит глаза, морозец взбадривает, подгоняет, и ты согреваешься, шагая по затвердевшей земле. Здесь — все в тумане, он застилает стекла и словно пронизывает тебя насквозь. Повсюду разлит тусклый свет, будто уже смеркается, хотя еще полдень. А летом дышать нечем — так пыльно, так дурно пахнет.
Все это — сущая правда. Без мужества, которое необходимо для защиты и поддержки своих прав, жизнь в таком городе немыслима. Во всяком случае — для меня. Батюшка же только и думает о декретах Национального собрания, занимается только ими да спорами в клубах, речами и газетными статьями. Ему все безразлично — какой у нас дом, дождь ли идет или снег, светит ли солнце. Он все находит прекрасным, лишь бы дела шли хорошо в Собрании и в Якобинском клубе. К тому же, с первого дня нашего пребывания в Париже все житейские заботы лежат на мне: я за все плачу, распоряжаюсь деньгами, хожу на рынок, занимаюсь починкой, отдаю белье прачке, веду счета. А когда я говорю отцу о хозяйстве, он отвечает: