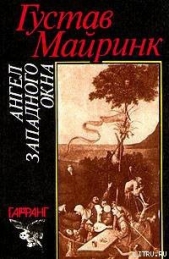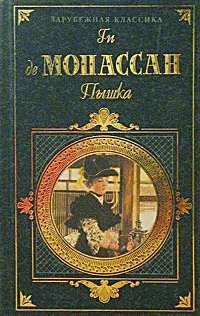Произведение в алом

Произведение в алом читать книгу онлайн
В состав предлагаемых читателю избранных произведений австрийского писателя Густава Майринка (1868-1932) вошли роман «Голем» (1915) и рассказы, большая часть которых, рассеянная по периодической печати, не входила ни в один авторский сборник и никогда раньше на русский язык не переводилась. Настоящее собрание, предпринятое совместными усилиями издательств «Независимая газета» и «Энигма», преследует следующую цель - дать читателю адекватный перевод «Голема», так как, несмотря на то что в России это уникальное произведение переводилось дважды (в 1922 г. и в 1992 г.), ни один из указанных переводов не может быть признан удовлетворительным, ибо не только не передает лексическое и стилистическое своеобразие признанного во всем мире шедевра экспрессионистической прозы, но не содержит даже намека на ту сложнейшую герметическую символику, которая была положена автором, членом целого ряда весьма известных европейских и азиатских тайных обществ и орденов, в основу его бессмертного романа. Предпосланная сборнику статья и обстоятельные комментарии являются, по сути, первой попыткой серьезного анализа тех скрытых и явных аллюзий на алхимию, каббалу и оккультизм, которыми изобилует это одно из самых глубоких и загадочных произведений мировой литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Должно быть, он был недавно выбелен, ибо его светлый силуэт отчетливо выделялся даже в непроглядной пелене тумана.
Я перелез через грубо сколоченную из толстых тесаных брусьев ограду и, подойдя по узкой садовой дорожке к дому, прижался лбом к оконному стеклу: ни зги не видно... Постучал в окно... Через некоторое время внутри мелькнула полоска света, дверь открылась, и в комнату шаткой, неуверенной поступью вошел какой-то древний как мир старец с горящей свечой в руке; доковыляв до середины своей лаборатории, он замер и стал настороженно оглядывать помещение - его взгляд медленно и внимательно скользил вдоль стен, уставленных алхимическими колбами и ретортами, задумчиво задержался на гигантской паутине в углу и, сместившись наконец к окну, в упор вперился в меня...
Тени от скул скрывали его глазницы - казалось, они были пусты, как у мумии.
Во всяком случае, меня он явно не видел.
Я вновь стукнул в стекло.
Старец не слышит - бесшумно, мерным, механическим шагом сомнамбулы покидает комнату.
Прождав напрасно несколько минут, я принялся что есть силы колотить во входную дверь: никакого ответа...
Делать нечего, пришлось самому искать выход, и я до тех пор искал его, пока наконец не нашел.
Поразмыслив, я решил, что сейчас мне лучше побыть среди людей, чтобы по крайней мере на пару часов заглушить снедающую меня тоску по страстным поцелуям Ангелины. Куда же пойти? Ну конечно к моим приятелям - Зваку, Прокопу и Фрисландеру, - вся троица в полном составе, разумеется, коротает время «У старого Унгельта»... И я быстрым шагом двинулся в сторону Тынского подворья.
Подобно выходцам из царства теней, восседал неподвластный законам этого бренного мира триумвират за старым, изъеденным жучком столом - в зубах белые глиняные трубки с длиннющими мундштуками, а дым в зале такой, что хоть топор вешай.
В тусклом свете старомодной висячей лампы, который казался еще более скудным на фоне темно-коричневых стен, лица живописной троицы были почти неразличимы.
В углу примостилась, нахохлившись, молчаливая, тощая как веретено и неизбежная как смерть морщинистая кельнерша -желтый утиный нос, бесцветные слезящиеся глаза и вечный вязаный чулок в руках...
Драпированная красными, изрядно засаленными портьерами дверь была плотно закрыта, так что доносившиеся из соседней залы голоса звучали совсем глухо, сливаясь в тихий монотонный гул, подобный гудению пчелиного роя.
Фрисландер в своей черной конической шляпе с прямыми полями, с бородкой клинышком, свинцово-серым лицом утопленника и зловещим шрамом под глазом походил на призрачного капитана «Летучего голландца».
Иошуа Прокоп с вилкой, лихо торчащей на манер индейского пера из его буйной музыкантской шевелюры, чуть слышно отстукивал своими непомерно длинными костлявыми пальцами какой-то замысловатый ритм, видимо неотступно звучавший в его переполненной винными парами голове, и с недоумением следил затем, как старый Звак непослушными пальцами упрямо старался нацепить на пузатую бутылку арака пурпурную пелерину марионетки.
- Вылитый Бабинский! - одобрительно кивнул Фрисландер и, ткнув пальцем в преобразившуюся бутылку, спросил, строго воззрившись на меня: - А вы, Пернат, знаете, кто такой Бабинский? Боже мой, он не знает, кто такой Бабинский! Звак, немедленно восполните этот непростительный пробел в эрудиции нашего приятеля!
Просить дважды словоохотливого кукольника не пришлось.
- Бабинский, - тут же затарахтел он как заведенный, ни на миг не прерывая своей работы, - был некогда знаменитым пражским разбойником. На протяжении многих лет
предавался он своему кровавому ремеслу, да так, что никто из благонамеренных бюргеров даже и помыслить себе не мог, чем занимается сей мерзопакостный злодей. Однако время шло, и в благородных семействах нашего богохранимого города стали, к своему немалому удивлению, все чаще с прискорбием отмечать странную закономерность: то один родственник, то другой начинал вдруг манкировать своими фамильными обязанностями, а говоря попросту, отсутствовал за обеденным столом, и не только за обеденным - что особенно повергало фраппированных таким недостойным поведением сотрапезников в горестное недоумение, - но и за утренним, и за вечерним... В общем, он как бы переставал существовать, растворялся в воздухе, как в воду канул... И хотя поначалу домочадцы таких без вести пропавших, как люди благовоспитанные, хранили гробовое молчание, стараясь не выносить сор, пардон, из избы - кроме того, дело имело и свои хорошие стороны, ведь количество-то едоков теперь сокращалось: это ж какая экономия! - однако нельзя было оставлять без должного внимания и то чреватое самыми неприятными последствиями обстоятельство, что в глазах общества безукоризненная доселе репутация семейства могла через сию, так сказать, дематериализацию весьма существенно пострадать и стать предметом досужих сплетен и светских анекдотов.
Особенно в тех щекотливых случаях, когда речь шла о бесследном... гм... исчезновении девиц на выданье.
Кроме того, известные обязательства налагала и бюргерская... гм, пардон... честь, неукоснительно требовавшая, чтобы семейная жизнь, эта святая святых каждого законопослушного обывателя, по крайней мере на людях выглядела благопристойно, а для этого необходимо было сохранять чувство собственного достоинства и ни в коем случае не терять лица.
В газетах замелькали объявления: «Вернись, все прощу!» - и общество, надо отдать ему должное, в конце концов вняло отчаянным призывам и ударило в набат, а вот Бабинский, у которого, как и у большинства его коллег, сделавших смертоубийство своей профессией, в голове был один только ветер, не придал сему тревожному факту ровным счетом никакого значения.
Трудясь не покладая рук на своем богопротивном поприще, он, в глубине души всегда алкавший идиллической простоты деревенской жизни и обладавший исключительно тихим и незлобивым нравом, со временем свил себе маленькое, но уютное гнездышко в мирной патриархальной деревушке Крч, близ Праги, -скромный домишко, сверкавший безукоризненной чистотой, а при нем крошечный садик с цветущей геранью.
Увы, стесненный в средствах, Бабинский не мог себе позволить прикупать соседние участки и был вынужден, дабы незаметно предавать земле тела своих множившихся день ото дня жертв, заменить дорогие его сердцу цветочные клумбы - о, надо было видеть, с каким душевным трепетом и умилением любовался он на свою герань! - на простые, поросшие травой грядки, эдакие практичные могильные холмики, которые легко и без ущерба для внешнего вида продлевались сообразно потребностям взыскательного садовода, то бишь в зависимости от его трудолюбия и времени года.
На сем скорбном месте Бабинский ежевечерне предавался отдохновению от трудов неправедных - вольготно раскинувшись на зеленеющих грядках, обильно унавоженных прахом невинно убиенных, кровожадный маньяк, надругавшийся над священной памятью замученных им людей, как ни в чем не бывало блаженствовал в лучах заходящего солнца, услаждая свой слух нежными, сентиментальными мелодиями, которые сам же наигрывал на флейте...
- Пршу прщения у пчтеннейшей п-публики! - заплетающимся языком вежливо прервал Иошуа Прокоп старого кукольника, извлек из кармана ключ и, поднеся его к губам, принялся извлекать душещипательные трели: - Цим-цер-лим цам-бусла дей...
- Да вы, мой друг, никак изволили соседствовать с сей печально знаменитой персоной, коли вам так достоверно известно, что он там наигрывал! - глумливо воскликнул Фрисландер, явно подтрунивая над чувствительным музыкантом.
Прокоп пронзил его испепеляющим взглядом.
- Увы, Бабинский слишком рано ушел из жизни. Но какие мелодии могли тронуть это суровое сердце, мне как
композитору известно, наверное, лучше, чем вам. Разве может какой-то маляр, которому медведь на ухо наступил, судить о такой деликатной материи, как музыка?.. Цим-цер-лим цам-бусла бусла дей...
Не на шутку растроганный, Звак благоговейно внимал жалобным руладам Прокопа, когда же тот кончил и спрятал ключ в карман, утер скупую слезу и продолжал как хорошо выученный урок: