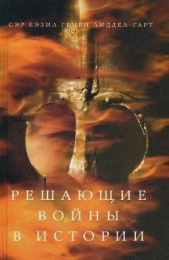Полное собрание рассказов

Полное собрание рассказов читать книгу онлайн
Рассказы Ивлина Во — шедевры английской сатирической прозы.
Они заставляют смеяться — и задумываться.
Сюжеты, порой граничащие с абсурдностью, необычны. Однако за иронией Ивлина Во просматривается горечь писателя, увидевшего крушение викторианских идеалов, казавшихся незыблемыми. Он так и не сумел вписаться, подобно своим персонажам, в реальность «новой» буржуазной Англии, одержимой погоней за деньгами, успехом и удовольствием…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дом выглядел опустевшим и мрачным, но не заброшенным — полагаю, что время от времени здесь устраивались ремонты и перестановки. Он выглядел тем, чем и являлся, — домом не слишком модного художника 1880-х. Шторы и чехлы на мебель были пошиты из практически вечной гобеленовой ткани; камины отделаны голландской плиткой; полы покрыты левантийскими коврами; стены украшали арундельские [68]репродукции, фотографии картин старых мастеров и майоликовые тарелки. Казалось, что зачехленная теперь мебель простояла на одном и том же месте на протяжении поколений — то были доставшиеся по наследству довольно гармоничные и скромные гарнитуры из предметов розового и красного дерева, а также отдельные недорогие коллекционные экземпляры: немецкие, резного дуба, испанские, орехового дерева, английские сундуки и комоды, медные кувшины, бронзовые подсвечники. Каждый предмет был знаком, но после того как в мое отсутствие их меняли и передвигали с места на место, я нашел целый ряд вещиц, которые узнавал с трудом. Книги, в основном старинные, были повсюду — на полках и в шкафах, на специальных вращающихся подставках.
Я открыл стеклянную дверь в кабинете отца и шагнул в сад. Весной здесь почти не пахло. Два платана с оголенными ветвями; под запыленными лаврами скопилась и гнила прошлогодняя листва. Сад всегда был каким-то безликим. Некогда, еще до постройки высоких жилых домов, мы иногда обедали здесь, устроившись под катальпой, что было не слишком комфортно; теперь же на протяжении вот уже многих лет это была ничейная земля, отделявшая дом от мастерской, что располагалась в дальнем конце сада. По одну сторону от нее, за шпалерами для вьющихся растений, были свалены какие-то старые рамы, ненужные кровати; некогда отец хотел устроить там парник, чтобы выращивать французские овощи. Полнеба закрывал многоэтажный жилой дом с пожарными лестницами, проведенными снаружи трубами и рядом окон с железными рамами, как в каземате. Жильцам этого дома категорически запрещалось вывешивать на просушку белье, но владельцы, видимо, давно отчаялись навести здесь порядок, и о том, сколько квартир занято, можно было судить по чулками и носкам, сушившимся на подоконниках.
Даже после смерти к частной жизни отца отнеслись с уважением, и никто не стал завешивать чехлами полотна. Картина под названием («Слишком велик?») [69]так и осталась на мольберте, незаконченная. Отец весьма тщательно готовился к созданию полотна, но затем, подходя к финальной стадии, всегда работал очень быстро. Методично, в мельчайших деталях прорисовывал монохромный набросок слева направо по всему полотну, словно правил при этом неумелый детский рисунок. « Прежде всегонадо хорошенько подумать, — говорил он своим студентам в академии. — Не лепить как попало краску на полотно. До того как начнете писать, вся композиция должна быть у вас в голове». И если кто-то возражал, что великие мастера редко использовали этот метод, он говорил: «Вы здесь для того, чтобы стать членами Королевской академии искусств, а не великими мастерами. (Так работал Форд Мейдокс Браун, и для британского искусства станет праздником тот день, когда кто-то из вас будет хотя бы наполовину так же хорош.) Если хотите писать книги по искусству, обойдите всю Европу, изучая творения Рубенса. Если хотите научиться писать, слушайте и смотрите на меня». Четыре-пять квадратных футов законченной картины маслом были памятником искусству моего отца. Было время, когда я испытывал к нему за это нечто отдаленно напоминающее уважение, но затем понял: сноровка и решимость — это еще далеко не все. Он занял свое место в истории, поскольку завершил период в английской живописи, который при других обстоятельствах и без него остался бы незавершенным, незрелым. Тут на ум сразу же пришли фразы из некролога: «…исполнил нарушенное обещание молодого Милле… Уинтерхолтер, подкрашенный духом Диккенса… Английская живопись, сколь бы прекрасной она ни была, никогда не являлась эстетическим движением… (век принца-консорта по контрасту с Викторианской эпохой…)», — и вместе с этими фразами пришло подлинное понимание места отца в искусстве, а чувство потери стало постоянным и ощутимым.
Зависимость от вербальных форм никогда не приводит ни к чему хорошему. Она никогда еще никого не спасала. Острота и продолжительность скорби ничуть не уменьшаются, если выразить ее словами. В доме все воспоминания сводились к собственной персоне — в памяти застряли все эти бесчисленные отъезды и приезды на протяжении тридцати трех лет, юность напоминала запятнанную скатерть, — но в мастерской все мысли были только об отце: я горевал и страдал особенно остро после недельной отсрочки; скорбь по отцу полностью завладела мной, сокрушила. Отсрочка объяснялась отчасти необычностью обстановки и целью поездки в Марокко, но по большей части все же литературной составляющей — я не находил нужных слов. Теперь слова нашлись; я начал мысленно оплакивать своего отца (с прозаическими модуляциями и классическими аллюзиями), обращаясь со скорбной похоронной речью к своим литературным воспоминаниям, и печаль, точно вода, скопившаяся в запруде, а затем направленная в нужное русло, быстро прошла.
У цивилизованного человека, в отличие от дикаря, не бывает таких стремительных переходов от боли к радости и обратно: слова формируются медленно, точно гной вокруг раны; чистых ран для него не существует — поначалу странное отупение, затем долгое нагноение, и вот шрам готов вскрыться. Лишь облачившись в защитные костюмы, эмоции могут сформироваться и выразиться в строках; иногда они набиваются в деревянную лошадь, иногда ведут себя как шпионы-одиночки, но в гарнизоне этом всегда существует «пятая колонна». За строками ясно проступает саботаж, шторка в освещенном окне поднимается и опускается, провод перерезают, вывинчивают болт, досье приводят в полный беспорядок — вот и погиб цивилизованный человек.
Я вернулся в дом и снова погрузил комнаты во тьму, опустив шторы и натянув чехлы, которые поднял, — словом, оставил все как было.
Рукопись «Убийство в замке Монтришар» лежала на комоде в моей комнате при клубе, утром, днем и вечером укоряя меня своим видом. Публикация была назначена на июнь, и прежде я никогда не подводил своих издателей, однако в этом году мне, видимо, придется просить об отсрочке. Я сделал две попытки засесть за работу: отнес кипу бумаг наверх, в помещение, которое в клубе именовалось библиотекой и куда частенько заглядывали пожилые члены клуба подремать между ленчем и чаем, — но вскоре обнаружил, что почему-то потерял к истории всякий интерес (нашел, что меня раздражает развитие событий во времени; затем уже почти собрался перечеркнуть все, что написал, и начать заново; убийце слишком повезло в то утро, когда совершилось преступление, — полиция проявила несвойственную ей тупость: достигнув в расследовании той стадии, когда на протяжении шести страниц следовало или докопаться до истины, или полностью сдаться, — не предпринимала ровным счетом ничего. Я не мог больше накапливать подсказки и изобретать новые ложные линии; почему бы ради разнообразия не приговорить к повешению не того человека или же позволить убийце ходить во сне и рассказывать при этом все как было? Словом, на меня нашел ступор). И вот я отправился к издателю и попытался объясниться.
— Я пишу уже восемь лет, — начал я, — а теперь вот достиг стадии климакса.
— Не понял… — растерянно протянул мистер Бенвел.
— Ну, я хотел сказать, настал поворотный момент в карьере.
— О, дорогой! Надеюсь, вы не думаете заключить договор с кем-то еще?
— Нет-нет, ни в коем случае. Просто боюсь превратиться в расхожего писаку бестселлеров.
— Смею заметить, подобная опасность существует для всех и всегда, — ответил Бенвел и слегка склонил голову, сидя во вращающемся кресле, а затем одарил меня кривой ухмылкой — так порой улыбаются люди, уверенные, что отвесили полноценный комплимент. Обычно эта улыбка приберегалась для женщин-писательниц; очевидно, тут сыграло свою роль слово «климакс», столь смутившее его.