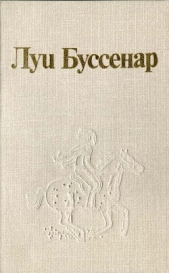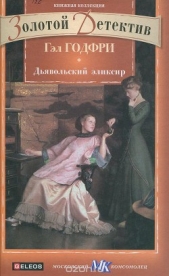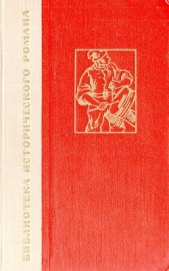История одного крестьянина. Том 1
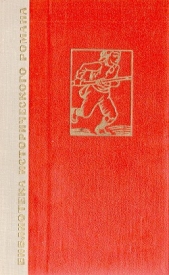
История одного крестьянина. Том 1 читать книгу онлайн
Тетралогия (1868–70) Эркмана-Шатриана, состоящая из романов «Генеральные Штаты», «Отечество в опасности», «Первый год республики» и «Гражданин Бонапарт».
Написана в форме воспоминаний 100-летнего лотарингского крестьянина Мишеля Бастьена, поступившего волонтером во французскую республиканскую армию и принимавшего участие в подавлении Вандейского восстания и беззакониях, творимых якобинцами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По вечерам дядюшка Жан вешал в шкаф свой роскошный мундир и, засунув эполеты и треугольную шляпу в картонную коробку, облачался в просторную вязаную блузу и приступал к изучению военного дела. Иной раз, работая в кузнице, когда мы меньше всего об этом думали, он вдруг начинал выкрикивать: «Смирно! Напра-во! Шеренга, шагом марш! Бегом!» Делал он так, чтобы проверить себя, попробовать голос, показать, какой у него бас. Почти каждый вечер, после ужина, к нам приходил посидеть верзила Летюмье: обхватив острое колено руками, он с лукавым видом задавал дядюшке Жану коварные вопросы, раскачиваясь на стуле. Крестный Жан видел в теории только каре и атаки штурмовыми колоннами, потому что сержант Керю считал это на войне главным. Лицо его краснело, и он кричал:
— Мишель, подай аспидную доску!
И мы, навалившись друг на друга, наклонялись над доской и, слушая его подробные объяснения, рассматривали глубокие построения в три-четыре человека, затем штурмовые колонны с пушками. Летюмье щурился и, покачивая головой, говорил:
— Промашка у вас, сосед Жан, промашка!
Крестный сердился и, стуча мелом по доске, кричал:
— Нет, это так! Говорю вам, так!
Все принимали участие в споре, даже тетушка Катрина. Мы старались перекричать Летюмье, и под конец никто уже ничего не мог разобрать — так, ни до чего не договорившись, мы засиживались до десяти часов вечера. Летюмье, уходя, уже в сенях все твердил:
— Промашка у вас, промашка!
А мы все бежали за ним и кричали:
— Это у вас промашка, у вас!
И если бы мы посмели, то исколотили бы его.
А дядюшка Жан говорил:
— Ну и тупица! До чего же глуп! Ничего не понимает.
Зато на учении Летюмье отыгрывался, командовал четко, заставляя людей проходить шеренгой, решительно показывая направление своей саблей — то направо, то налево. И нужно отдать ему справедливость, он, не меньше чем крестный, заслужил право стать лейтенантом. Так считали все жители Лачуг, впрочем, само положение Жана Леру — хозяина харчевни и кузнеца — повышало его в чине. К тому же он слыл в деревне первым красавцем.
Вот из чего ясно видно, какими простофилями оказались дворяне и епископы тех времен: после взятия Бастилии они не остались в Национальном собрании — отвоевывать свои права, которых, впрочем, у них не было, собрались в путь и отправились к нашим врагам клянчить о помощи в борьбе против нас [97]. По дорогам вереницей тянулись сеньоры, епископы, челядь, аббаты, капуцины, знатные дамы; из Лотарингии ехали в Трир, из Эльзаса — в Кобленц или в Базель, ехали, угрожая:
— Подождите! Подождите! Мы еще вернемся, еще вернемся!
Они словно с ума посходили; все в лицо им смеялись. Эго и была так называемая эмиграция. Все началось с графа д’Артуа, герцога де Конде, принца Бурбонского, Полиньяка и маршала де Брольи, того самого, что командовал армией, окружавшей Париж, и намеревался захватить Национальное собрание. Втянули они также и короля в свое безумное предприятие, а теперь, поняв, как оно опасно, эти верноподданные роялисты оставили его одного «беде.
Видя, какой они учинили разгром, дядюшка Жан восклицал:
— Пусть себе удирают! Пусть удирают! Вот-то будет облегчение для нас и нашего доброго короля! Теперь он будет один, его светлость, граф д’Артуа ему своих идей уж не подскажет.
Все ликовали. Эх, если бы и дворяне навсегда уехали от нас, мы бы их и не поминали. От всего сердца подарили бы их немцам, англичанам, русским. Но многие оставались во главе наших войск и только и думали восстановить солдат против народа. Ведь эдакая подлость! Вы увидите, что эти люди замыслили против отечества; я все расскажу по порядку, торопиться нам некуда.
Парижане в то время еще любили короля и захотели, чтобы он остался с ними. Они послали своих жен в Версаль, чтобы упросить его приехать к ним вместе с королевой Марией-Антуанеттой, юным дофином и всей королевской семьей. Людовику XVI не оставалось ничего иного, и он принял приглашение, а бедный изголодавшийся народ кричал:
— Ну, теперь мы с голоду не умрем… с нами булочник, булочница и мальчишка-подручный [98].
Лафайет, который ехал впереди верхом на белой лошади, был назначен командиром национальной гвардии, а Байи — мэром Парижа. Вот здесь и видно добросердечие обездоленного народа, не помнящего зла.
Шовель в те дни описал нам эти трогательные сцены. Он рассказал, что Национальное собрание следовало за королем и что совещание происходило в большом манеже, позади замка Тюильри.
Раз в пять-шесть недель мы получали от него письмо со связкой газет: «Парижские революции», «Революции Франции и Брабанта», «Патриотические записки», «Парижский публицист» и множество других — их названия мне теперь не приходят на память.
Все было написано с силою и блеском, в особенности статьи Лустало [99] и Камилла Демулена [100].
Все, что свершалось, все, что говорилось во Франции, было описано в газетах, да так хорошо, что каждый крестьянин мог представить себе нашу точку зрения. Мы их читали на рынке в Пфальцбурге, где великан Элоф Коллен устроил первый наш клуб по образцу клуба Якобинцев [101] и клуба Кордельеров [102] в Париже. Там-то мы вечерами и собирались между складом пожарных насосов и старыми мясными лавчонками. Летюмье сообщал о новостях так громко и четко, что можно было все разобрать на Оружейной площади. Со всего края сходились сюда люди, чтобы его послушать, а аптекарь Триболен, Рафаэль Манк, старый солдат Дидье Горцу, шляпочник, человек весьма рассудительный, Анри Доминик, трактирщик, Фиксари, Барух Арон, Перне и другие именитые горожане выступали с речами о правах человека, о вето [103], о делении Франции на департаменты, о законе об активных и пассивных гражданах [104], о допущении на должности протестантов и евреев; об учреждении гласного суда, об упразднении монастырей и религиозных орденов и о национализации имений духовенства, о выпуске ассигнатов [105] — словом, обо всем, о вопросах, которые обсуждались в Учредительном собрании. Вот какая наступила жизнь, какие произошли перемены.
В прежнее время сеньоры и епископы все бы порешили, сделали, уладили в свою пользу в Версале, ничуть не заботясь о нашем благе, и продолжали бы аккуратнейшим образом стричь нас; их управители, сборщики, блюстители порядка являлись бы к нам с конными жандармами и без зазрения совести заставляли бы выполнять барские прихоти, которые были законом. А наш добрый король, лучший из людей, беспрерывно толковал бы о своей любви к обездоленным; дворцовые газеты были бы полны сообщениями о балах да о празднествах, о поездках на охоту — сплошь восхваления и раболепство, а тем временем холод, голод и всяческие беды по-прежнему одолевали бы простых людей. Ах, какое же счастье слушать, когда говорят о твоих собственных делах, и иметь право высказываться, поддерживать тех, кто выступает, отстаивая наше благо, кричать, топать ногами, выступая против тех, кто нам не нравится.
Вот это и называется — жизнь! Как сейчас, вижу я старый рынок, освещенный фонарем, подвешенным к стропилам. На скамьях видимо-невидимо людей; ребятишки уселись под навесом сапожника, старика Дамьена, на столе стоит великан Коллен и вслух читает газету. Ветер врывается под навес, блики света скользят по лицам собравшихся; вдали виден часовой в старой треуголке, в истасканном белом мундире, с ружьем на плече; он то и дело приближается, останавливается и слушает.
А вот и старики, дремлющие позади весов, каменная подставка которых за полвека обросла мохом: тут и наш толстый мэр Буало с трехцветным шарфом, тут и господа эшевены, и Жан Бокер — судебный служитель, должностное лицо из резиденции прево, — которого с некоторых пор заместил Жозеф Базайль, квартирмейстер национальной жандармерии. Вот и сам желтолицый прево с крючковатым носом, в длинноволосом парике. Все эти люди молча прохаживаются вдоль каменной стены и не думают отдавать приказ о том, чтобы нас окружили и изгнали, а то и повесили, как приказали бы два-три года назад, — да, все мне теперь вспоминается.