В ногу!
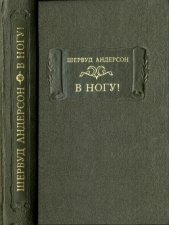
В ногу! читать книгу онлайн
В романе Андерсона, шокировавшем современников эмоциональным накалом и экзотичностью идей, проявилось психологическое состояние автора — преуспевающего бизнесмена, стоящего на пороге разрыва со своей карьерой и респектабельной жизнью.
Автор посвятил эту книгу американскому рабочему классу.
Перевод с английского М. Г. Волосова, дополненный и исправленный Е. М. Салмановой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как много смешного в той долгой борьбе, которую я вел. Моя жена думала, что я помешался. Она всегда считала меня слегка не в себе, и кто может ее осудить? Ей на долю выпало жить со мной в это ужасное время и не знать ничего о том, что происходило в моей душе, а я точно так же не знал, что происходило в ее. Дома мы смотрели друг на друга невидящими глазами. Порой нас охватывала нежность, и поздними вечерами мы сидели в темноте комнат и плакали [126].
На второй год жизни здесь я начал писать. Я написал «Уинди» и «В ногу!», и это спасло меня от безумия. Каждую ночь я пробирался к себе в комнату, чтобы писать. У меня не было никакого образования или подготовки. Мне в голову приходила мысль: «Я — средоточие духа своего времени, — шептал я себе. — Я невежествен, и так же невежественны все мои собратья; мне сейчас до жути, до сумасшествия тоскливо, и так же однажды вся Америка погрузится в тоску, граничащую с безумием».
В моей конторе работала женщина, родители которой были из местных. Вечерами она оставалась в конторе и перепечатывала то, что я написал. Она была сильна, полна жизни и честна. Иногда, после того как она заканчивала печатать и мы устало тащились домой по темным путям, она дотрагивалась до моей руки и говорила низким голосом. Ее глаза наполнялись слезами: «Как было бы хорошо, если бы вам удалось сбросить с себя все это», — говорила она.
Днем, при посторонних, эта женщина постоянно вертелась как белка в колесе. В ней было много мальчишеского, и она то и дело умудрялась порвать на себе платье. В перерыве она убегала во двор и боролась с кем-нибудь из фабричных мальчишек. Когда в конце концов положение компании стало отчаянным, и я, видя, как улетучиваются деньги, доверенные мне другими, не мог спать по ночам, она ухаживала за мной с материнской заботой. Однажды утром я потерял память и бежал из Элирии, бродил по полям, спал в канавах, набивал карманы кукурузой, которую грыз как зверь. Тогда бы я испугался даже этой женщины. Я боялся всего в человеческом образе. Когда, после нескольких дней блужданий, я почувствовал, что ко мне вернулся рассудок, и, измученный, но в то же время довольный своим окончательным поражением, притащился в больницу какого-то неизвестного городка [127] и заснул, меня разбудило прикосновение ее честной, широкой ладони. Я сел на кровати, готовый кричать, стремясь выразить ей свою радость от того, что снова нахожусь среди живых, но на меня смотрели только пустые белые стены нового незнакомого места. Я начал новую жизнь, и, когда снова погружался в сон, слышал шепчущий низкий голос, в котором было что-то окончательное и бесповоротное: «Вы должны навсегда оставить ту жизнь и все, что было частью той жизни» [128].
Бэб, Чикаго, 17 апреля 1917.
Снова, как и всегда, когда я читаю роман «В ногу!», я возбужден и взволнован. В некотором смысле в этой книге заключено содержание значительного куска моей жизни. Когда я снова и снова возвращаюсь к работе над ней, мои мысли перескакивают назад, в то время, когда я начал ее писать, без какого-либо плана, урывками. Все это казалось мне тогда великой песней, жуткой и неохватной. У меня не хватало сил, чтобы справиться с ней. Ночами я бродил и молился. От слишком большой усталости мой рассудок однажды отказал мне, и какое-то время я был развалиной, блуждающей так же бессмысленно, как и все общество.
Теперь роман превосходно прост. Он пойдет далеко. Он зажжет песню во многих сердцах.
Чикаго, май 1917 (?).
Дорогой Брат: [129] видишь ли, я вырос в семье с пятью крепкими мальчишками [130], жившими по философии затрещин. Мы старались бить в кровь. Когда у кого-то появлялась идея, он должен был за нее драться.
Я все время чувствую, что ты не веришь по-настоящему в мое стремление писать. Ты рассуждаешь о нем отвлеченно, а не становишься на мою точку зрения.
Видишь ли, мне уже почти сорок один. У меня позади двадцать лет изматывающей каторги современной промышленной жизни. Я выдержал это, заставил промышленность кормить и одевать меня и моих домашних, и за последние пять или шесть лет я вдобавок написал пять или шесть книг [131]. Многие из тех прозаических опытов, о которых ты говоришь, — мои.
Как ты не понимаешь, как можешь не видеть, что я вовсе не пренебрегаю тобой, когда говорю, что одобрение или неодобрение любого значит для меня очень мало?
Из всех наук человеку следует выучиться науке самого отчаянного сопротивления влиянию тех, кто его любит.
Мне кажется, богов прошибает пот, когда какой-нибудь человек начинает устанавливать законы относительно возможностей искусства. Мне кажется, от твоего заявления, что моя стезя — проза, а не песня, богов прошиб пот.
Разве ты не видишь, как, несмотря на груз усталости, я делаю то, что нужно, когда пробую стремительный, уверенный полет песни? [132]
Да, в конце концов, что из того? Я пою смелому, но часто усталому сердцу Шервуда Андерсона. Я открывал двери неудач тысячи раз. Мне знаком этот путь. Он меня не пугает. В романе «В ногу!» я писал о том, что уже существует, — о песне труда и заводов, железной песне, ритмической и жуткой. Не спорь со мной, если в моем характере посылать все к чертям, пока я пытаюсь поймать что-то из песни людей, машин и земли.
И приезжай ко мне на дачу в июне [133].
Чикаго, сентябрь 1917 (?).
Дорогой старина Уолдо: не могу сказать, какой ты молодчина, что написал и дал возможность узнать о себе. Дни шли, я ничего о тебе не слышал и страшно боялся, что операция прошла как-нибудь неудачно.
Здесь по-прежнему рев и грохот. Войска маршируют по улицам [134]. Люди, приехавшие из западных городов, говорят, что военные настроения крепнут.
Тем не менее из подполья постоянно раздаются призывы к миру, которые умножатся, когда станет туго. Я все еще верю, что наш Средний Запад не позволит себя заразить тем духом ненависти, который так старательно нагнетают газеты.
Что касается меня, что ж, я вернулся домой один, Теннесси осталась на некоторое время в горах, и я все время работаю. Фон новой книги уже создан, я написал пять глав [135]. Все больше и больше различаю отдельные черты и особенности ее героев.
Ну разве такая неотрывная работа не облегчение? Воображение набирает силу и завладевает тобой. Нынешняя война и все сложности слегка отступают назад.
Что касается «В ногу!», что ж, ты и представить себе не можешь, с каким интересом я ждал твоей реакции на эту книгу. Как я сказал тебе однажды, я писал ее в разгар серьезной перестройки своей жизни. Это была тема, которая глубоко волновала мое довольно примитивное естество. Приходил и уходил внутренний ритм и такт вещей, вливались тысячи внешних деталей. Я работал как сумасшедший, затем отбросил книгу. Я возвращался к ней снова и снова. Закончив, я уже понятия не имел, хороша она или плоха. Я знал только, что избавился от нее и могу заняться чем-то другим.
Странно, что, обсуждая опасности, грозящие «Севен Артс», мы и подумать не могли о том, что ее светлость сбежит с кассой [136]. Это плохо, но, может быть, оно и к лучшему. Возможно, журнал, как и человек, чтобы чего-то стоить, должен уметь принимать на себя такие удары и выживать. Так или иначе важно то, что ты поправляешься. Как и раньше, ты будешь высоко держать голову и работать. Если «Севен Артс» скончается, это не будет таким уж сокрушающим ударом, чтобы остановить прилив твоего мужества.























