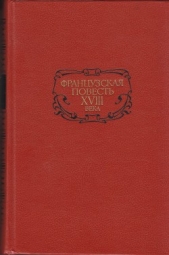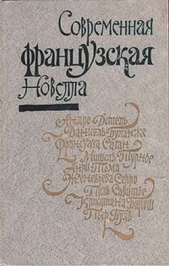Французская новелла XX века. 1900–1939

Французская новелла XX века. 1900–1939 читать книгу онлайн
В книге собраны рассказы и прозаические миниатюра французских писателей первой половины XX века. Значительная часть вошедших в книгу произведений в русском переводе публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В 1915 году безбожник Макс Жакоб принял католическую веру, в 1921-м — поселился близ монастыря в селении Сен-Бенуа-сюр-Луар. Он по-прежнему сочинял иронические романы. («Филибют, или Золотые часы», 1922; «Владения Бушабаль», 1923), стихи, в которых изощрялся в каламбурах, порой изъясняясь внятно и ясно, как на духу (сборник «Главная лаборатория», 1921; «Баллады», 1938), эстетические трактаты и мистические произведения.
Двадцать четвертого февраля 1944 года гестаповцы арестовали Жакоба: в «вину» ему вменялось его еврейское происхождение. В тюрьме он заболел и 5 марта скончался в концлагере Дранси.
Max Jасоb; «Le geant du Soleil» («Солнечный великан»), 1904; «Le roi de Beotie» («Король Беотии»), 1921; «Romanesques» («Романические характеры»), 1956.
«Воспоминания папаши Вобуа» («Les memoires du pere Vaubois») входят в сборник «Король Беотии», «Жизнеописание великого человека» («Biographie du grand homme») — в книгу «Романические характеры».
Мемуары папаши Вобуа
Оно, конечно, так… да только кто же садится за мемуары в семьдесят два года? Чутье, говорите? Чутье чутьем, но тем не менее, так сказать, образования-то мне не хватает, да! А я мог бы немало порассказать о Шарлевиле, ведь я служил комиссаром полиции не за страх, а за совесть, да и не трусливого десятка был. Спросите хоть у доктора Трассена! Жаль вот, умер он, а то бы рассказал вам, как мне прижигали руку каленым железом, а я хоть бы пикнул. Да что говорить, однажды утром растапливал я, как водится, печь в здешней библиотеке, и у меня загорелась рука, а я гляжу на нее и даже не подую. Надо вам сказать, Шарлевиль будет побольше этого городишка. Теперь-то я частное лицо, хожу себе в синей накидке и в сабо, важность не велика, но тогда, знаете ли, чтобы я куда без перчаток!.. Ни-ни! Для меня одного держали в театре ложу на пять кресел! Была у меня перевязь, фотография при себе, на случай ежели что, и еще семейная книжечка, как я ее называл, такой блокнотик, куда я записывал все, что от кого услышу. Вхожу я, положим, в какую-нибудь лавочку и говорю: «Если вам, случаем, будет недосуг прийти к нам дать показания, не стесняйтесь, кликните меня, коли я поблизости. Такая уж у меня служба, чтобы порядок был!»
Однажды в городе стала орудовать шайка грабителей. Жандармов тогда было маловато, не то что теперь, и нам никак не удавалось сцапать их. Зовет меня прокурор и говорит: «Что же, так вы их и не поймаете, Вобуа?» — «Извиняюсь, — говорю, — да скорее я подам в отставку!..» Нет, вы слушайте, что было дальше. В те поры попрошайничал в Шарлевиле один побирушка, сухонький такой, с палочкой. А от двоих или троих моих знакомых я узнал, что он угрожает тем, кто ему не подает. Вот однажды встречаю я его и делаю ему внушение. А он мне этак гордо: кто вы, мол, такой? Ну, я ему показываю на мою фуражку с бляхой. Посмотрим, думаю, что ты теперь запоешь. «Эту штуку, — спрашиваю, — знаете?» — «Нет, — говорит, — не знаю». Вижу, крепкий орешек попался, ничем его не проймешь. «Ну, что ж, — говорю, — могу объяснить: комиссарская фуражка» (мы тогда еще фуражки носили). Посмотрел я его бумаги, а они, как на грех, в порядке. Возраст — тридцать семь лет, профессия — носильщик, место рождения — Азенкур. Словом, придраться не к чему. Начал я тогда наводить о нем справки в других участках, — у нас всегда так, непременно что-нибудь да отыщется, а тут — осечка, в деле номер два — чисто: так, пустяки, несколько случаев браконьерства и все. Однако вечером того же дня мне удалось задержать его за бродяжничество и посадить в каталажку. Вы слушайте, тут-то и начинается самое главное. Некоторое время спустя мне доложили, что он говорил такие слова: «Какое же дурачье эти жандармы и комиссары! Сажают невинных людей, а воры у них под носом гуляют на свободе, потому что таких поймать у них кишка тонка».
Как раз незадолго до того воры так обнаглели, что забрались в мэрию, похитили приставную лестницу, а потом разбили витраж в церкви и пытались взломать ларь с церковными деньгами. «Э-э-э, — думаю, — ты, видать, дружок, знаешь немало, да только помалкиваешь, погоди же». Так вот слушайте, что было дальше. Зову я одного из моих стукачей и говорю: «Раздобудь-ка себе рубаху, какую постарее, да сабо, и мне тоже… Этого добра где угодно найти можно». Переоделись мы, значит, нахлобучили шапки и фуражки и так, знаете, изменили личность, просто не узнать. Пошел я к прокурору, а прокурор был трусоват. Как завидел меня из своего кабинета, бросился к двери, навалился на нее изо всех сил, чтобы, значит, я не вошел, и вопит, зачем, мол, пускали к нему. «Да не бойтесь вы, господин прокурор, — кричу я ему через дверь, — это же я, Вобуа!» Тогда прокурор очень удивился и улыбнулся, — он-то знал, какой я честный служака. «Велите двум жандармам притащить меня в каталажку, — говорю я ему, — и будьте покойны, я накрою этих голубчиков!» Прокурор охотно согласился устроить это маленькое представление, и вот нас со стукачом впихивают в каталажку. А там сидит этот сморчок-побироха. Вы не знаете, что такое каталажка?.. Никогда не видели? Вообразите такое местечко, где темно, как в дровяном подвале, стоит там ведро, куда ходят по нужде, и топчан для ночлега, так-то! Попрошайка лежал на койке у стены. «Ах, как мне плохо, как мне плохо, — начал я причитать не своим голосом, понятно, — как мне плохо. Ах, мерзавцы жандармы! Ах, негодяи!» Ложусь я это рядом с ним, и мои сабо колотятся о топчан. «Ах, как мне плохо», — причитаю я, стало быть, изменив голос, и все на пол плюю.
Тут этот сморчок и говорит мне: «Еще какие мерзавцы эти жандармы! И дураки в придачу! Сажают людей, которые ничего такого не сделали, а те гуляют себе на свободе».
— Кто «те»? — спрашиваю я.
— Воры, кто ж еще!..
— Воры? Так вы их знаете?
— Еще бы мне их не знать!
— Да не может быть!.. Вы их знаете не больше, чем я.
А он мне в ответ:
— Это я-то не знаю? Я не знаю Кудрявого, Милорда и всю их шатию? Я не знаю дома на горе, на Черной Пустоши?!
Сами понимаете, мой стукач даром времени не терял. Он лежал на койке и притворно охал, а сам между тем составлял протокол, так сказать, в присутствии заинтересованных сторон. Тут я поднимаюсь, ни слова не говоря, и как бы невзначай натыкаюсь на дверь. Такой у нас был условный знак. Незачем мне было торчать здесь до завтрашнего дня. Жандармы отворили нам. Побирушка так и вылупил глаза, а сам молчит. Оттуда я прямиком к прокурору — теперь уже, ясное дело, в гражданском платье — и говорю ему: «Господин прокурор, готово, они у меня в руках».
Жизнеописание великого человека
Шарль Дюран родился в тысяча… году. Он происходил из провинциальной семьи, ничем, видимо, не примечательной, хотя во французских архивах Дюраны упоминаются с XIV века. В списках жителей городка Бо провинции Пуату за 1398 год значится некий Дюран, якобы снявший у кого-то дом; в архиве прихода Сент-Сколастик, что в Ле-Мане, среди бумаг XVI века сохранилась запись о крещении другого Дюрана; в анналах наполеоновских войн упоминается сержант Шарль Дюран, который, объевшись лапшой, скончался в канун битвы при Маренго от несварения желудка (см. «Мемуары генерала М…», т. XI, стр. 213). Но речь здесь не о предках Дюрана. Исследование данной проблемы не входит в нашу задачу. Предоставим ее решение знатокам по части родословных. Нас же здесь будет интересовать жизнь и творчество великого Дюрана. Из одного трогательного в своей банальности письма его матери явствует, что знаменитая Жюли Дюран, любимая писательница молодежи 1860-х годов, состояла с Шарлем в далеком родстве. Названия ее произведений широко известны: это «Аглая, или Тяжкий долг», «Арман, или Юный наставник». Итак, почтенная кузина — достойная предшественница Шарля, и потому следует ли удивляться, что с младых ногтей он подавал такие блестящие надежды?