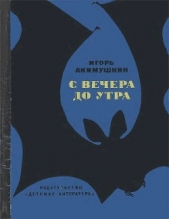Том 2. Невинный. Сон весеннего утра. Сон осеннего вечера. Мертвый город. Джоконда. Новеллы

Том 2. Невинный. Сон весеннего утра. Сон осеннего вечера. Мертвый город. Джоконда. Новеллы читать книгу онлайн
Габриэле Д'Аннунцио (настоящая фамилия Рапаньетта; 1863–1938) — итальянский писатель, поэт, драматург и политический деятель, оказавший сильное влияние на русских акмеистов. Произведения писателя пронизаны духом романтизма, героизма, эпикурейства, эротизма, патриотизма. К началу Первой мировой войны он был наиболее известным итальянским писателем в Европе и мире.
Во второй том Собрания сочинений вошел роман «Невинный», пьесы «Сон весеннего утра», «Сон осеннего вечера», «Мертвый город», «Джоконда» и новеллы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет, нет! Что ты делаешь? Ты убьешь его! — воскликнула мать.
В эту минуту дверь раскрылась, и кто-то доложил:
— Доктор.
Вошел доктор Джемма.
— Я уже ехал сюда и встретил коляску. Что случилось?
Не ожидая ответа, он подошел к брату, державшему на руках Раймондо; он взял его, осмотрел и нахмурился. Он сказал:
— Тише! тише! Надо распеленать его.
Он положил его на кровать кормилицы и помог матери распеленать его.
Показалось голое тельце. Он был такого же землистого цвета, как и лицо; руки и ноги висели безжизненно. Толстая рука доктора ощупывала кожу тут и там.
— Сделайте что-нибудь, доктор! — молила мать. — Спасите его!
Доктор казался в нерешительности. Он пощупал пульс, приложил ухо к груди и тихо сказал:
— Порок сердца… Невозможно.
Потом спросил:
— Но как случилась эта перемена? Внезапно?
Мать хотела рассказать, но зарыдала. Доктор решил попробовать некоторые средства. Он хотел заставить ребенка пробудиться от летаргии, заставить его закричать, вызвать рвоту, побудить его к энергичному дыханию. Мать сидела и смотрела на него, и из ее широко раскрытых глаз бежали слезы.
— Джулианна знает? — спросил брат.
— Нет, может быть, догадывается… Может быть, Кристина… Останься здесь. Я пойду посмотрю; я сейчас вернусь.
Я посмотрел на ребенка, которого держал доктор, посмотрел на мать; вышел из комнаты; побежал к Джулианне, перед дверью я остановился: «Что я ей скажу? Скажу правду». Вошел и увидел Кристину, стоявшую у окна; я прошел в альков, занавесы которого были спущены. Она лежала, с головой закрывшись одеялом. Подойдя к ней, я заметил, что она дрожала, как в приступе лихорадки.
— Джулианна, это я.
Она раскрылась и повернула ко мне лицо. Она спросила меня шепотом:
— Ты оттуда?
— Да.
— Скажи мне все.
Я наклонился к ней, и мы говорили шепотом, находясь близко друг от друга.
— Ему плохо.
— Очень?
— Да, очень.
— Он умирает?
— Как знать! Может быть.
Внезапным порывом она высвободила руки и обняла меня за шею. Моя щека касалась ее щеки; и я чувствовал, как она дрожала, чувствовал хрупкость этой бедной, больной груди; и в то время, как она обнимала меня, во мне мелькали образы отдаленной комнаты; я видел ребенка с глазами потухшими, тусклыми, с бескровными губами; я видел, как у матери бежали слезы. Не было радости в этом объятии. Сердце мое сжималось; душа моя, полная отчаянья, чувствовала себя одинокой, склонившейся над темной пропастью этой другой души.
Когда наступил вечер, Раймондо не было уже в живых. Все признаки острого отравления углекислотой замечались в этом маленьком теле, ставшем трупом. Личико стало синим, почти свинцовым; нос заострился; губы были темно-синего цвета; виднелись мутные белки из-под полузакрытых глаз; на верхней части ноги виднелось красное пятно; казалось, что уже началось разложение; таким жалким казалось это детское тело, бывшее розовым и нежным несколько часов тому назад, когда его ласкали руки матери.
В ушах моих отдавались крики, рыдания и безумные слова матери, в то время как Федерико и женщины уводили ее.
— Пусть никто его не трогает! Пусть никто его не трогает! Я сама хочу его омыть. Я сама хочу его запеленать. Сама…
Потом ничего. Крики прекратились. По временам доносилось хлопанье дверей. Я был один. Доктор тоже был в комнате; но я был один. Что-то странное происходило во мне, но я еще не мог понять.
— Уходите, — сказал мне доктор тихо, прикасаясь к моему плечу. — Уходите из этой комнаты.
Я был покорен; я повиновался. Я медленно шел по коридору, когда кто-то снова дотронулся до меня. То был Федерико; он обнял меня. Я не плакал; я не испытывал волнения; я не понимал того, что он говорил. Однако, я услыхал, что он назвал Джулианну.
— Отведи меня к Джулианне, — сказал я ему.
Я взял его под руку; я дал вести себя, как слепого. Когда мы были перед дверью, я сказал:
— Оставь меня.
Он крепко сжал мне руку и ушел. Я вошел один.
Ночью тишина в доме была гробовая. В коридоре горел свете. Я шел по этому свету, точно лунатик. Что-то странное происходило во мне, но я еще не видел ясно, что именно. Я остановился, точно предупрежденный инстинктом. Дверь была открыта: свет проникал через опущенные занавесы. Я переступил через порог; откинул занавесу; вошел. Колыбель, убранная белым, стояла посреди комнаты между четырьмя зажженными свечами. С одной стороны сидел брат; с другой — Джиованни Скордио. Присутствие старика нисколько не удивило меня. Мне казалось естественным, что он тут, я ни о чем не спросил его, я ничего не сказал ему. Кажется, я даже слегка улыбнулся им обоим, смотревшим на меня. Я, право, не знаю, действительно ли улыбнулись мои губы, но я как бы хотел им сказать: «Не беспокойтесь обо мне, не стараетесь утешить меня. Видите: я спокоен. Мы можем молчать». Я сделал несколько шагов, сел у подножек колыбели между двумя свечами. Я принес сюда свою испуганную, смущенную, слабую, совсем изменившуюся душу. Брат и старик все еще сидели, но я был один. Усопший был одет в белое: в крестильную одежду, или так мне показалось. Только лицо и руки были открыты. Маленький рот, так часто вызывавший во мне ненависть своим плачем, был неподвижен под таинственной печатью. Молчание его было и во мне, и вокруг меня. И я смотрел и смотрел. Тогда в этом молчании загорелся свет в глубине моей души. Я понял. Слова брата, улыбка старика не могли мне открыть того, что сразу открыл молчаливый, маленький рот младенца. Я понял. И тогда меня охватила страшная потребность признаться в своем преступлении, открыть свою тайну, заявить в присутствии этих двух людей:
— Я убил его.
Оба смотрели на меня, и я заметил, что оба беспокоились обо мне, смущались моим состоянием перед трупом, что оба с беспокойством ждали конца моей неподвижности. Тогда я сказал:
— Знаете, кто убил этого младенца?
Голос среди тишины звучал так страшно, что он мне самому показался неузнаваемым, чужим. Внезапный ужас заледенил мою кровь, сделал неподвижным мой язык, затемнил мое зрение. Я задрожал; я чувствовал, как брат поддерживал меня, трогал мою голову. В ушах у меня так шумело, что слова его доносились до меня смутно, неясно. Я понял, что он считает меня пораженным лихорадочным приступом и старается меня увести. Я дал увести себя.
Поддерживая, он увел меня в мою комнату. Страх все еще не оставлял меня. Увидя свечу, горящую на столе, я вздрогнул. Я не помнил, оставлял ли я ее зажженной.
— Раздевайся, ложись в постель, — сказал Федерико, с нежностью увлекая меня за руки.
Он заставил меня сесть на кровать, ощупал мой лоб.
— Послушай. Лихорадка твоя усиливается. Начинай раздеваться. Ну-ка, живей!
С нежностью, напоминавшею мне мать, он помогал мне раздеться. Он помог мне лечь в постель. Сидя у моего изголовья, он время от времени трогал мой лоб, а так как он видел, что я все еще дрожал, то спросил меня:
— Тебе холодно? Дрожь не прекращается? Хочешь, я тебя прикрою? Тебе хочется пить?
Я же думал, содрогаясь: «Если б я заговорил! Если б я мог продолжать! Неужели я сам, сам, собственными губами произнес те слова? Действительно ли то был я? А что если Федерико обдумает это, вникнет, и у него явится подозрение? Я спросил: „Знаете ли вы, кто убил этого младенца?“ Больше ничего. Но разве у меня не было вида исповедующегося убийцы? Обдумав это, Федерико спросит себя: Что он хотел этим сказать? Против кого направлял он это страшное обвинение? И моя экзальтированность покажется ему подозрительной. Доктор… Нужно заставить его думать о докторе. Может быть, он намекал на доктора? Нужно чтобы у него было новое доказательство моей возбужденности, чтобы он продолжал думать, что мозг мой расстроен лихорадкой и находится в состоянии непрерывного бреда». Во время этих рассуждений быстрые и ясные образы мелькали в моем представлении с очевидностью реальных осязаемых вещей. «У меня лихорадка и очень сильная. Если, действительно, настанет бред, и я бессознательно выдам свою тайну!»