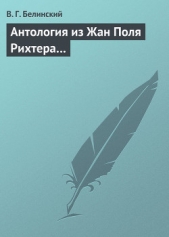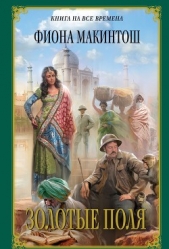Чернозёмные поля

Чернозёмные поля читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Протасьев опять отвернулся от Суровцова и продолжал, как ни в чём не бывало, обращаясь к Овчинникову:
— Я с тобою не схожусь в этом случае. Ты вот видишь Лидочку и больше никого. Бесспорно, она роскошный кусочек. Но, по-моему, нет ничего более пикантного, более, так сказать, вызывающего нашего брата гурмана, как эти отроковицы… полудевушка, полуребёнок… тот возраст, который Альфонс Барр так метко называет les femmes dejà jolies… вот в этом-то dejà и весь смак… Некоторая недоспелость… Dejà jolies, jolies и encore jolies… Из этих трёх мудрых категорий я всегда предпочту первую. Если хороши asperges-primeurs, то девушки-primeurs — чего же лакомее? Заметь, что Гёте с особенною любовью рисует свою Миньону… А это именно полуребёнок, пожалуй, полумальчик. Недаром Гёте был гениальнейший из развратников, как Гейне говорит о нём: «Зевс, покрывающий с одинаковый величием и Данаю, и Европу, и Ио, et cetera, et cetera… Да и сам Олимп. Ведь в этих легендах изумительный смысл: возьми Ганимеда — fille-garçon — вот истинный букет Олимпа.
— Послушайте, Протасьев! Можно ли с такою уверенность проповедовать такую вредоносную гиль, извините меня, пожалуйста! — остановил его Суровцов, серьёзно возмущённый. — Вы примешиваете в ваши развратные аппетиты и историю, и мифологию, и литературу для того, чтобы всё опошлить. Не достаточно ли быть просто развратником, без всякой философии? Вряд ли убудет вас от этого!
Каншин, Овчинников и почти все собеседники чуть не привскочили со своих мест при резкой выходке Суровцова. Но Протасьев отвечал ему, не шевельнув бровью и нисколько не изменяя своего хладнокровного тона:
— Да вот видите ли, мой добрейший, я тоже немножко профессор. В этом смысле я отчасти existence manquée. Право, чувствую в себе способность профессуры и проповеди. Вы не думайте, что я болтаю так, зря. Ошибаетесь. Я много думал и учился на своём веку, хотя и не имею степени магистра, но, поверьте, я истинный доктор исторической философии, и у меня тоже можно поучиться кое-чему. Мне отлично известна история мира, во всех деталях… Я на память знаю все французские мемуары, чуть не с тринадцатого столетия… Только у меня своя система изучения истории: я интересовался историею проституции и, изучив её, узнал всю историю мира. Вы не верите? А ей-богу, это так. Все эти ваши histoire de la civilisation, histoire des peuples, Kultur und Sittengeschichte — всё это в сущности одна огромная histoire de la prostitution. Это кит, на котором стоит всегда, всегда стоял и будет стоять земной шар. Пойми это, mon cher. Только это правда, всё остальное — враньё; сладенькое ли, тёпленькое ли, но всё-таки враньё. Одна есть твёрдая точка опоры у людей — это потребность разврата, как вы говорите; потребность наслаждения, говорю я. Другим я не стану этого говорить, ни ему, ни ему (Протасьев бесцеремонно указал на Каншина и Овчинникова). Они этого не поймут, потому что не охотники до философии. Но вам, человеку учёному и неглупому, я могу это объяснить. Вот вам моя profession de foi, раз и навсегда. Олимп основан на разврате, Рим, Париж, Вавилон — всё это разврат. Всё высшее стремится к разврату. Почему ж не стремиться и нам с вами? Или вы, быть может, предпочитаете подвергаться эксплуатации, чем эксплуатировать самому? В таком случае извините: у нас разные вкусы. Я за власть, не за рабство. Конечно, я не буду проповедовать этих вещей au bas-peuple, народу; тому и я, разумеется, посоветую быть целомудренным и не пить водки. Это обязанность благоразумия. Но сам я буду пить мараскин и наслаждаться женщинами, какими только могу. Человек — существо развратное, это для меня аксиома. Я не хочу быть лучше других: homo sum. Жаль только. что не хватает сил, что тело отказывается поспевать за желанием. Скажу вам правду…
Протасьев нагнулся к уху Суровцова и сообщил ему что-то.
— Ну вас совсем, с исповедью! — презрительно сказал Суровцов. — Мне ещё не случалось в жизни встречать такую самоуверенную и самовосхваляющую испорченность. Знаете, если бы имели обычай вешать людей с такими убеждениями, — прибавил Суровцов, улыбаясь, — вы не должны бы были особенно обижаться. Ведь общество должно же иметь право охранять себя от заразы.
Протасьев добродушно расхохотался.
— Вот забавно! Вешать… Нет, батюшка, вешать будем всё-таки мы, а не нас. Мы — сила, принцип века; нам и подобает власть предержати.
Крутогорский адвокат Прохоров до такой степени упитался изысканными блюдами Филиппа и винными поливаниями этих блюд, что почти дремал в мягких креслах кабинета, ободряя себя крошечными глотками любимого своего ликёра, crème de thé, которого гранёный кувшинчик он с этою целью нарочно поставил около себя. Прохорову не раз хотелось смеяться и вступить в интересный холостой разговор, поднятый Протасьевым, но он не имел сил даже состроить улыбки, не только двинуть языком. Только уже тогда, когда кабинет очистился от гостей, высыпавших в сад, и Протасьев, уходя последним, подошёл к нему закурить сигару, адвокат настолько отлежался, что мог процедить сквозь зубы:
— Знаете, Протасьев, я во многом согласен с вами… Вы верно понимаете жизнь… Но как вы решаетесь говорить эти вещи громко? В них можно верить, но исповедовать их не следует.
— Почему же это, мой добрейший?
— Да так, знаете… Общественная совесть возмущается… Неловко…
— Гм… В вас, адвокатах, всегда есть немножко крючка. Вы боитесь товар лицом показать. А я вольный философ, вольтерьянец. Мой отец тоже был вольтерьянцем, хотя и построил мужикам церковь во имя мученика Харлампия. Я не вижу причины говорить полусловами, а отпечатываю обыкновенно буква в букву всё, что считаю нужным сказать.
— Ну, знаете, ещё при мужчинах, куда ни шло. Но ведь женщины… с ними нельзя так… Они любят культ, романтику.
— Я всегда был дерзок с женщинами, мой милейший, и советую вам поступать по-моему, если хотите иметь успех. Женщина требует насилия, авторитета. Если она не поддаётся вам, значит, вы тряпка, она вас не уважает; наступайте на неё сильнее, и она будет ваша.
— Когда б вашими устами да мёд пить.
— И будете пить, любезнейший, я уверяю вас. Вы, верно, читали Шекспира. Это лучший знаток женщин. Помните у него Ричарда III, горбатого урода? Он остановил женщину у гроба её мужа, им убитого, выслушал все её проклятия и — сделался её любовником! Таков настоящий мужчина и настоящая женщина. Вот вам и разгадка. Я всегда вспоминаю этот почтенный пример.
— Чёрт вас знает, что вы за человек, — пробормотал Прохоров полуудивлённо, полунасмешливо. — Адамантова скала цинизма!
— Недурно сказано! — заметил Протасьев, спокойно уходя из кабинета с сигарой во рту. — Адамантова скала! Откуда вы это выдернули?
M-me Мейен пела в диванной немного тронутым, но ещё сильным и звучным контральто. Она была хорошей школы и могла доставить удовольствие своим пением даже человеку, которому не в диковину хорошее пение. Суровцов слушал её с балкона, в отворённое окно. Ему была видна вся публика, столпившаяся в диванной. Надя Коптева стояла в углу, у конца рояля, и, сложив вместе маленькие ручки свои, как складывают дети на молитву, слегка разинув наивный пухленький ротик сердечком, с самым чистосердечным наслаждением глядела, не сводя глаз, в лицо поющей баронессы. Она, видимо, позабыла о публике и была вся в пении. И многие другие слушали баронессу с большим вниманием. Мужчины подходили на цыпочках из гостиной и бесшумно останавливались на пороге.
Только Лидочка никак не могла совладать со своим нетерпением: опустившись на мягкую кушетку так, что вся кушетка покрылась голубыми волнами её оборок и шлейфов, Лида чувствовала, что хотя все уши слушают баронессу, но зато все глаза смотрят на неё, Лиду. Она делала вид, что слушает пение, но, по правде сказать, едва замечала, что поёт баронесса. Ей казалось, что поза, которую она примет в эту минуту, гораздо важнее всякого пения, и она поминутно вертелась на кушетке с капризными, но грациозными движениями. Ей было мало безмолвного созерцания её грации, безмолвного богопоклонения толпы, стоявшей кругом. Баронесса с своим контральто всё-таки была царицей этой минуты и заметно увлекала слушателей. Лиду это несколько раздражало. Ей не нравилось делить с кем бы то ни было своё обаяние, и она в первый раз, пристально глядя на величавую, зрелую красоту баронессы, почувствовала жгучую зависть. «Отчего мама не выучила меня петь?» — досадливо думала Лида, кусая губки.