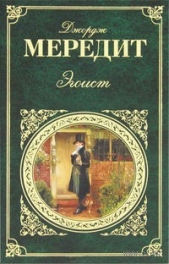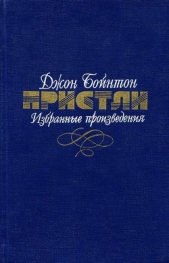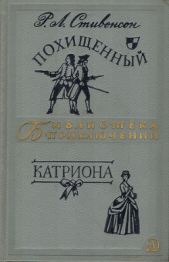Испытание Ричарда Феверела

Испытание Ричарда Феверела читать книгу онлайн
В своем творчестве Джордж Мередит (1828–1909) продолжает реалистические традиции в английской литературе.
Роман «Испытание Ричарда Феверела» (1859) посвящен проблеме становления личности героя, теме взаимоотношений «отцов и детей». Вслед за Диккенсом Дж. Мередит выступает сторонником гуманистических принципов воспитания молодого человека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мне хочется знать, что было у вас в мыслях, когда вы писали это изречение, что вас на него натолкнуло. Неужели другому человеку не позволено проникнуть в истоки мудрости? Мне интересно узнать, как рождаются мысли – настоящие мысли. Это не значит, что я надеюсь овладеть этой тайной. Вот вам начало изречения (но мы, несчастные женщины, не можем даже соединить двух мыслей из тех трех, из которых, как вы утверждаете, изречение складывается).
«Когда ошибается человек мудрый, то не становится ли его ошибка страшнее ошибки глупца?» – вот какая догадка мне пришла в голову.
Не идет у меня что-то дело с Гиббоном, поэтому я жду вашего возвращения, чтобы вы тогда снова принялись читать его вслух. Не по душе мне то насмешливое отношение, которым проникнуто все, что он пишет. Я продолжаю вглядываться в его лицо, и в конце концов у меня появляется к нему какая-то личная антипатия. Совсем другое дело Вордсворт [62]! И все равно, я никак не могу избавиться от мысли, что он держится неизменно высокого мнения о себе самом (и тем не менее, я питаю к нему уважение). Но вот что любопытно: Байрон, тот был еще большим эгоистом, и все-таки к нему подобных чувств у меня не возникает. Он напоминает мне хищного зверя в пустыне, дикого и прекрасного; что же касается первого, то это, как бы сказать, отличной породы осел, взятый у древних, осел отличнейший, то есть очень красноречивый и от природы очень довольный собою, и само упрямство его должно восхищать нас, ибо это качество присуще его предназначению. Хуже всего то, что, как ни будь совершенен осел, высоких достоинств в нем все равно никто не заподозрит и, таким образом, мое сравнение справедливо и ложно. Вордсворта я люблю больше, и все-таки Байрон оказывается надо мною более властен. Почему это так?» («Потому, – написал сэр Остин на полях карандашом, – что женщины трусливы и их могут покорить ирония, страсть, но чаще всего сердце их глухо к превосходству и подлинному вдохновению».)
Далее в письме говорилось:
«Я закончила Боярдо и принялась за Берни. Последний оскорбителен. Мне кажется, что мы, женщины, не очень-то ценим юмор. Вы правы, утверждая, что у нас его нет и что мы «хихикаем», вместо того чтобы по-настоящему смеяться. Это верно (во всяком случае, в отношении меня), что «Фальстаф для нас всего-навсего неисправимый толстяк». Хотелось бы мне знать, что за этим образом стоит. А Дон Кихот – из каких это соображений автору понадобилось делать благородного человека смешным [63]? Я уже слышу, как вы говорите: практический ум! Так оно и есть. Женщины существа очень ограниченные, я это знаю. Но мы любим остроумие – опять-таки из практических соображений! Или, говоря вашими словами (когда я действительно думаю, они, как правило, приходят мне на помощь – может быть, оттого, что чаще всего я думаю вашими мыслями): „Выпад рапиры для нас действительнее, чем широко раскрытые объятия разума"».
Какое-то время баронет вертел еще это письмо в руках, перечитывал отдельные места, расхаживал взад и вперед по комнате и размышлял бог весть о чем. Существуют мысли, для которых язык чересчур груб и всякая форма чересчур произвольна; мысли эти возникают у нас и определенным образом на нас влияют, и вместе с тем мы не можем удержать эти окутанные дымкой субстанции и сделать их видимыми и ясными для нас самих, не говоря уже обо всех прочих. Почему, например, проходя мимо зеркала, он дважды в него заглянул? С минуту он стоял с поднятой головой и взирал на свое отражение. Однако вряд ли он разглядывал в это время свою наружность; сдвинутые вместе седые брови и морщины, которые, оттого что брови он часто хмурил, пролегли полукружиями по его прямому высокому лбу; седеющие волосы поднимались надо лбом и ниспадали такою же прядью, как у Ричарда. На всем его облике лежал отпечаток прожитых лет; однако годы эти отнюдь не отяжелили его, и он не утратил прежней осанки. Осмотр его удовлетворил, но глаза его были широко открыты, как будто он взирал ими на свою суть, стараясь разглядеть ее сквозь маску, которая у всех у нас на лице. Может быть, в эту минуту он прикидывал, какое впечатление внешность его может произвести на проницательную леди Блендиш. Об ее чувствах к нему он ничего не подозревал. Но он знал, с какой удивительной прозорливостью женщины, когда захотят и пока чувства их еще не окончательно вскипели под полуденными лучами, умеют подметить все в мужчине, распознать все стороны его характера и нащупать слабую. Он прекрасно понимал, что самому ему чуждо чувство юмора (недостаток, который больше всего отъединял его от его ближних), и очень может быть, что, обладающий ясным умом, пристально вглядывающийся в себя, баронет поддался смутному соблазну: так же, как и поэту, ему представилось, что женщина воспринимает его – седовласого зверя! – как некое высшее существо.
Может быть, все представлялось ему именно так; на это он был способен: улучая минуты, он ловил очень яркие изображения в том огромном зеркале, которое действительность за пределами узкого круга нашей обыденной жизни являет нам, дабы мы могли разглядеть как следует себя самих, когда мы этого захотим. На его несчастье, он был начисто лишен чувства юмора, которое, как правило, идет вслед за этим; и, все разглядев, он, однако, подобно спутнице пресловутого Валаама, не смог сделать ни шагу вперед [64]. А ведь хоть раз над собою посмеяться означало бы для него освободиться от вредных последствий самообмана, и несуразностей, и чудачеств; это позволило бы ему более здраво взглянуть на окружающую жизнь, но он ни разу не посмеялся.
По дороге в Беллингем, в поезде, непрестанно ощущая на себе возбужденно блестевшие глаза сына и поднявшийся в нем мятежный дух, сэр Остин пытался до конца уверовать в собственную непогрешимость, как и надлежало человеку, имеющему за плечами Систему. И оттого, что ему это не удалось и упорная борьба с собой оказалась тщетной, он не остановился перед тем, чтобы вырастить в себе неприязнь к молодой женщине – ведь не кто иной, как она, помешала успешному завершению эксперимента. Он просто не мог думать о ней иначе. Панегирики ее нраву и красоте, на которые не скупилась леди Блендиш, его раздражали. Позабыв о том, что он, в сущности, больше не имеет никакого на это права, он принялся рассуждать так, как обычно рассуждают отцы: «Почему это он не вправе сделать все, что в его силах, чтобы остановить сына, потерявшего голову из-за первой попавшейся на его пути девчонки?» За этими размышлениями он не уберег всю былую нежность свою к предмету затеянного им эксперимента – к сидевшему рядом порывистому, пылкому юноше, и в его безмерную любовь к нему вторглась суровость. Он подумал, что коль скоро у дяди этой молодой девушки созрел столь разумный план выдать ее замуж за своего сына, то он не только не должен ему мешать, но напротив – всячески поощрять этот план и даже помочь ему осуществиться, и это будет вполне оправданно, законно и справедливо. В этот момент, когда он принял это решение, у сэра Остина не было зеркала, чтобы на себя еще раз взглянуть, а о письме леди Блендиш он, должно быть, начисто позабыл.
Кроме отца с сыном, в вагоне никого не было. Каждый был погружен в свои мысли, и всю дорогу они молчали. Когда поезд стал приближаться к Беллингему, все вокруг было уже окутано мраком. По ту сторону станции над поросшими сосновым лесом холмами, по зеленому небу пролегла последняя розоватая полоса. Ричард не сводил с нее глаз. Она притягивала его; можно было подумать, что полоска эта побрала в себя всю его любовь, и теперь сердце его наполнялось безысходною грустью, а на глазах проступали слезы. Ущербная красота этого кусочка неба, казалось, взывала к его душе, клялась, что Люси верна: в ней было что-то от скорбного лица его Люсины, как он ее называл; лицо это молило его поверить. Всякий раз, когда она поднимала на него свои чуть прищуренные глаза и в их глубинах вспыхивал свет, какая-то особая нежность разливалась вокруг; этот взгляд ему потом снился и снился; и теперь вот он ощутил его опять – в этой убегающей дали, и по телу его пробежала дрожь.