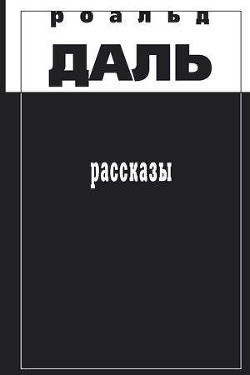Неизвестный Кафка
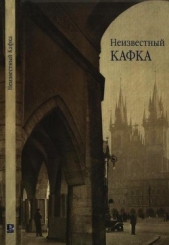
Неизвестный Кафка читать книгу онлайн
В Приложении помещены наброски к совместному с Максом Бродом роману «Рихард и Самуэль», оставшемуся неоконченным, отрывки из книги Феликса Вельча «Религия и юмор в жизни и творчестве Франца Кафки», эссе Натали Саррот «От Достоевского к Кафке» и статья графолога Ж. Монно с анализом почерка Кафки.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
281. — Как я сюда попал? — крикнул я.
Это был средних размеров зал, залитый мягким электрическим светом, и я обходил его вдоль стены. Хотя в ней и были двери, но, открывая их, ты оказывался перед темной гладкой стеной скалы, отстоящей от порога двери не более чем на ладонь и уходящей вертикально вверх и в обе стороны в непроглядную даль. Здесь выхода не было. Только одна дверь вела в соседнее помещение, за ней открывалась картина более обнадеживающая, но не менее поразительная, чем за другими дверями. Там были какие-то княжеские покои, там везде царили золото и пурпур, там было множество зеркал до потолка и висела огромная хрустальная люстра. Но это было еще не все.
282. Я не должен возвращаться, камера взорвана, я шевелюсь, я ощущаю свое тело.
283. Я приказал вывести из конюшни мою лошадь… [см. прим.]. {138}
284. Я подошел, задыхаясь. На палке, немного косо воткнутой в землю, была табличка с надписью: «Погружение». «Похоже, я у цели», — сказал я себе и огляделся вокруг. Всего в нескольких шагах от меня стояла невзрачная, целиком заросшая зеленью садовая беседка, из которой доносилось легкое позвякивание тарелок. Я направился туда, просунул голову в низкое отверстие входа, почти ничего не разглядел в темноте внутри, но все же поздоровался и спросил:
— Не знаете ли, кто обслуживает погружение?
— Я лично, к вашим услугам, — ответил чей-то приветливый голос, — сию минуту иду.
Теперь я понемногу разглядел собравшееся за столом небольшое общество; там были молодая супружеская чета, трое маленьких детей, лобики которых едва возвышались над столом, и один грудной ребенок — еще на руках у матери. Муж, сидевший в глубине беседки, хотел сразу же встать, чтобы пробираться к выходу, но жена горячо попросила его сначала доесть; он указал ей на меня, она стала возражать, что я любезно соглашусь немного подождать и оказать им честь, разделив с ними их скромный обед, так что, я наконец, крайне досадуя на самого себя, столь отвратительно разрушившего воскресную радость этих людей, вынужден был сказать:
— К моему великому сожалению, уважаемая, я не могу принять ваше приглашение, поскольку должен немедленно — да, в самом деле немедленно — погрузиться.
— Ах, — сказала женщина, — именно в воскресенье, да еще и в обед. Ах, эти людские капризы. Это вечное рабство.
— Не корите меня уж так-то, — сказал я, — я ведь вашего мужа вызываю для этого не из прихоти, и если бы я знал, как это делается, я бы давно уже все сделал сам.
— Да не слушайте вы жену, — сказал мужчина, который был уже рядом со мной и тащил меня прочь. — Нельзя же требовать понимания от женщины.
285. Это был узкий, низкий, выкрашенный белым коридор со сводчатым потолком, я стоял перед его входом, он под углом уходил в глубину. Я не знал, входить ли мне, и в нерешительности ковырял носком ботинка чахлую траву у входа. Мимо, видимо случайно, проходил какой-то господин; он был несколько сгорбленный, однако бодрый, так как захотел со мной говорить.
— Куда ты, малыш? — спросил он.
— Пока никуда, — сказал я, взглянув в его веселое, но надменное лицо, оно было бы надменным даже и без монокля, который он носил, — пока никуда. Я только думаю.
286. «Странно, — сказал пес и провел лапой по лбу. — Где же я бегал? Сперва на рыночной площади, потом — по оврагу вверх на холм, потом много раз вдоль и поперек по большой возвышенности, потом — вниз по склону, потом кусок по проселку, потом влево к ручью, потом вдоль ряда тополей, потом мимо церкви, и вот я здесь. Но зачем же? И при этом был в отчаянии. Счастье, что я уже вернулся. Я боюсь этой бесцельной беготни, этих огромных пустых пространств; какой я там жалкий, беспомощный, маленький и совершенно брошенный пес! Да меня совсем и не тянет убегать отсюда, мое место — здесь, во дворе, здесь моя конура, здесь моя цепь на случай иногда накатывающей на меня кусачей злобы, здесь — всё и обильная кормежка. Ну, так в чем же дело? По собственной воле я никогда бы отсюда и не убежал, мне здесь хорошо, я горжусь моим положением, приятное, но оправданное чувство превосходства распирает меня, когда я смотрю на прочую живность. Но разве еще хоть одно из этих животных убегает отсюда так бессмысленно, как я? Ни одно; ну, кошку, эту мягкую когтистую тварь, которая никому не нужна и которой никто не нужен, я в расчет не беру, у нее свои тайные дела, которые меня не интересуют, и она шляется тут и там, занимаясь ими, но и то — только поблизости от дома. Так что я — единственный, кто время от времени дезертирует, и когда-нибудь я совершенно точно лишусь из-за этого моего господствующего положения. Сегодня, к счастью, этого, кажется, никто не заметил, но недавно Рихард, сын хозяина, уже сделал по этому поводу одно замечание. Это было в воскресенье, Рихард сидел на скамейке и курил, а я лежал у его ног, прижавшись щекой к земле. „Цезарь, — сказал он, — паршивый ты, вероломный пес, где ты был сегодня утром? В пять утра, то есть в то время, когда ты еще должен сторожить, я тебя искал и нигде во дворе не нашел, ты вернулся только в четверть седьмого. Это беспрецедентное нарушение долга, ты это понимаешь?“ Значит, это опять открылось. Я встал, сел рядом с ним, обнял его одной рукой и сказал: „Дорогой Рихард, прости меня еще один этот раз и не рассказывай об этом никому. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы больше это не повторилось“. И я так сильно разрыдался — из-за всего, из-за чего только возможно: от отчаяния из-за самого себя, от страха перед наказанием, от того, что у Рихарда было такое трогательно мирное выражение лица, от радости, что никакого орудия наказания в тот момент у него не было, — я рыдал так сильно, что замочил своими слезами пиджак Рихарда; он стряхнул меня и приказал заткнуться. То есть я обещал тогда исправиться, а сегодня повторилось то же самое, я отсутствовал даже дольше, чем тогда. Правда, я обещал сделать только то, что в моих силах. И не моя вина…».
287. Борьба со стеной камеры.
Вничью.
288. Это красивый и эффектный номер — скачка, которую мы называем «скачкой снов». Мы показываем его много лет; тот, кто его придумал, давно уже умер от чахотки, но вот это его наследство осталось, и у нас пока нет никаких причин исключать эту скачку из программ, тем более, что конкуренты повторить ее не могут: она — хоть это на первый взгляд и непонятно — неповторима. Мы обычно ставим ее на конец первого отделения: для финала вечера она бы не подошла, в ней нет ничего ослепительного, ничего дорогостоящего — ничего того, о чем можно вспомнить по дороге домой, а в финале должно идти что-то такое, что останется незабываемым впечатлением даже в самой тупой голове, что-то такое, что спасет от забвения весь этот вечер; ничего такого эта скачка из себя не представляет, но она годится для того… {139}
289. Друг, которого я не видел уже много лет (больше двадцати) и от которого подолгу, часто годами, не получал вестей, приходивших крайне нерегулярно, вынужден был теперь возвратиться в наш город — в свой родной город. Поскольку родных у него здесь уже не было, а среди друзей я был ближайшим — и намного ближе всех прочих, я должен был предложить ему комнату у меня и рад был узнать, что мое приглашение принято. Я был очень озабочен тем, как дополнить обстановку этой комнаты во вкусе моего друга, я пытался вспомнить его привычки и те особые пожелания, которые он иногда — в частности, когда мы вместе путешествовали во время каникул — высказывал, пытался вспомнить, чтó в ближайшем окружении ему нравилось и чтó вызывало отвращение, пытался в деталях восстановить в памяти, как выглядела его комната в юности, и из всего этого не извлек ничего такого, что я мог бы устроить в моей квартире, чтобы он чувствовал себя в ней немного уютнее. Он вырос в бедной многодетной семье, и отличительными особенностями их квартиры были нужда, шум и ссоры. В моих воспоминаниях я все еще ясно вижу комнату рядом с кухней, в которой мы иногда — довольно редко — могли посидеть одни, в то время как рядом, на кухне, остальные члены семейства занимались выяснением отношений, которое здесь не прекращалось никогда. В этой маленькой темной комнатке стоял неистребимый кофейный дух, поскольку дверь в еще более темную кухню не закрывалась ни днем, ни ночью. Мы сидели там у окна, выходившего на крытый балкон, тянувшийся вдоль всего дома, и играли в шахматы. Двух фигур в нашем комплекте не хватало, и нам приходилось заменять их брючными пуговицами; из-за этого, правда, иногда — когда мы путали значения пуговиц — возникали осложнения, но мы к этим заменителям привыкли и других не хотели. Дальше по коридору жил один торговец церковной парчой, веселый, но беспокойный человек с длинными торчащими усами, которые он обхватывал пальцами, как флейту. Возвращаясь вечером домой, этот человек должен был пройти мимо нашего окна; обычно он останавливался, наклонялся к нам в комнату, облокачивался на подоконник и смотрел на доску. Почти всегда он оставался недоволен нашей игрой, как моей, так и друга, давал ему и мне советы, потом сам хватал фигуры и делал ходы, с которыми нам приходилось соглашаться, так как если кто-то из нас хотел их поменять, то немедленно получал по рукам; мы долго терпели это, потому что он играл лучше нас — ненамного лучше, но все-таки лучше, — так что мы могли у него учиться, но однажды, когда уже было темно и он, наклонившись к нам, совсем забрал у нас доску и поставил к себе на подоконник, чтобы как следует рассмотреть позицию, я — а у меня как раз было значительное преимущество, и я опасался, что это грубое вмешательство может ему угрожать — в гневном порыве ничего не учитывающего ребенка, которому причиняют явную несправедливость, встал и сказал, что он мешает нам играть. Он коротко посмотрел на нас, взял доску, с иронической готовностью превосходства вернул ее на прежнее место, ушел и с тех пор с нами больше не знался. Только когда проходил мимо окна, всегда делал, не глядя на нас, отбрасывающее движение рукой. Вначале мы всему этому радовались, как какой-то большой победе, но потом нам все-таки стало недоставать его поучений, его веселости, вообще — его участия; не понимая тогда ясно причины, мы забросили игру и обратились вскоре к совсем другим занятиям. Мы начали собирать марки, и то, что у нас был общий альбом марок, означало, как я понял лишь впоследствии, почти непостижимо тесную дружбу. Одну ночь этот альбом проводил у меня, следующую всегда — у него. Затруднения, возникавшие уже из-за самого этого совместного обладания, усугублялись еще тем, что мой друг вообще не мог приходить ко мне домой: мои родители не разрешали. Этот запрет был направлен, собственно, не против него — мои родители его почти не знали, — а против его родителей, против его семьи. И в этом смысле запрет был, по всей видимости, небезоснователен, но в такой форме все-таки не очень понятен, так как в результате он ведь не достигал ничего, кроме того, что я ежедневно ходил к моему другу и тем самым только погружался в атмосферу этой семьи, причем глубже, чем если бы другу было разрешено приходить ко мне. Причина заключалась в том, что поведение моих родителей часто бывало не рациональным, а лишь тираническим, и не только по отношению ко мне, но и по отношению к миру. В данном случае им было достаточно того, — и это исходило больше от матери, чем от отца, — что этот запрет являлся наказанием и унижением для семьи моего друга. Что меня из-за этого охватывало сострадание и что родители друга в силу естественной реакции обращались со мной насмешливо и презрительно, мои родители, правда, не знали, но в этом отношении они обо мне вообще не заботились и если бы даже всё узнали, это их не очень бы взволновало. Так я оцениваю все это, естественно, только сегодня, оглядываясь назад, а тогда мы были двое друзей, вполне довольных положением дел, и мучительные переживания несовершенства окружающего мира нас еще не коснулись. Ежедневно таскать альбом туда и сюда было хлопотно, однако…