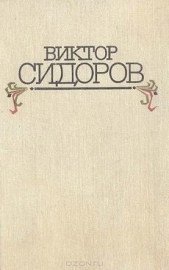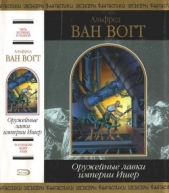Коричные лавки. Санатория под клепсидрой

Коричные лавки. Санатория под клепсидрой читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лавка, лавка была беспредельна. Она оставалась объектом всех мыслей, ночных изысканий, исполненных жути отцовых раздумий. Непостижимая и без границ, она существовала вне происходящего, мрачная и универсальная. Днем исполненные патриархальной основательности суконные генерации лежали сложенные по старшинству, распределенные по поколениям и степени устарелости. Однако ночью бунтарская суконная чернота выламывалась и штурмовала небеса в пантомимических тирадах, в люциферических импровизациях. Осенью лавка шумела, выплывая сама из себя, вздутая половодьем темного ассортимента зимнего товара, как если бы целые гектары лесов двинулись с места большим шумливым пейзажем. Летом, в мертвый сезон, она угрюмела и отступала в свои темные резервации, недоступная и малословная в суконной своей чащобе. По ночам приказчики колотили, как цепами, деревянными аршинами в глухую стену свертков, слушая, как лавка страдальчески и нутряно мычала, замурованная в суконную медвежью суть.
По этим глухим ступеням фетра отец сходил в глубины генеалогии, на дно времен. Он был последним в роду, был Атласом, на плечи которого легло бремя огромного завета. Дни и ночи размышлял отец над тезой этого завета, желая во внезапном озарении постигнуть его сущность. Не однажды выжидательно и вопрошающе взирал он на приказчиков. Сам без знаков в душе, без проблесков, без указаний, он полагал, что молодым, наивным и едва вылупившимся, откроется вдруг смысл лавки, от него самого укрытый. Он припирал их к стене настойчивым морганием, но, бестолковые и косноязычные, они избегали его взгляда, прятали глаза, в замешательстве плетя несусветную чушь. По утрам, опираясь на высокую палку, отец, словно пастырь, кочевал среди слепого этого шерстяного стада, этих сгрудившихся заторов, этих теснящихся у водопоя блеющих безголовых туловищ. Он пока что выжидал, оттягивал момент, когда поднимет народ свой и двинется в шумливую ночь навьюченным муравейным бессчетным Израилем...
Ночь за дверями была словно из свинца — без пространства, без дуновения, без дороги. Она безглазо кончалась в двух шагах. Оставалось, как в полусне, топтаться у скорой этой границы, и пока, исчерпав невеликое пространство, увязали ноги, мысль летела дальше, не зная конца, все время испытуемая, выспрашиваемая, ведо́мая через все бездорожья черной той диалектики. Дифференциальный анализ ночи происходил сам в себе. Но тут, наконец, ноги вовсе останавливались в глухом безысходном заулке. И стоишь в темноте целыми часами в интимнейшем закутке ночи, словно у писсуара, в глухой тишине, с ощущением благостного конфуза. Только мысль, предоставленная себе, потихоньку раскручивается, путаная анатомия мозга разматывается, точно клубок, и среди язвительной диалектики нескончаемо длится абстрактный трактат ночи летней, прокувыркивается сквозь логические выкрутасы, с обеих сторон подпираемый всегдашними и терпеливыми вопрошаниями, софистическими вопросами, на которые нет ответа. Так с трудом профилософствовывал он сквозь спекулятивные пространства ночи и входил, уже бестелесный, в распоследнюю глухомань.
Было далеко заполночь, когда отец резко оторвался от бумаг. Он встал, преисполненный значительности, расширив зрачки и обратившись в слух. — Идет, — сказал он, пылая лицом, — отворите. Прежде чем старший приказчик Теодор подбежал к стеклянным дверям, которые забаррикадировала ночь, в них уже протиснулся нагруженный узлами чернобородый, великолепный и улыбающийся долгожданный гость. Господин Иаков, невероятно взволнованный, кланяясь, кинулся навстречу, простирая обе руки. Они обнялись. Какой-то момент казалось, что черный низкий лоснящийся паровоз беззвучно подкатил к самым дверям лавки. Носильщик в железнодорожной фуражке втащил на спине огромный сундук.
Мы так никогда не узнали, кто на самом деле был сей гость великолепный. Старший приказчик Теодор упорно утверждал, что это собственной персоной Христиан Сайпель и Сыновья (механические прядильни и ткальни). Немногое говорило за это, мать не скрывала сомнений относительно таковой концепции. Как бы, однако, ни обстояло дело, не приходилось сомневаться, что был это, по всей вероятности, могущественный демон, один из столпов Национального Союза Кредиторов. Черная благоухающая борода обрамляла его полное, сверкающее и исполненное достоинства лицо. Обнятый отцовой рукой, он среди поклонов двигался к конторке.
Не понимая чужеземного языка, мы с уважением вслушивались в церемониальную конверсацию, исполненную улыбок, зажмуриваний, легкого и свойского похлопывания по спине. После обмена вступительными вежливостями мужчины сразу приступили к основному делу. Разложили на конторке книги и бумаги, откупорили бутылку белого вина. С пряными сигарами в углах рта, с лицами, застывшими в гримасе нелюбезной удовлетворенности, господа обменивались короткими паролями, односложными условными знаками, с лукавым блеском авгуров в глазах судорожно прижимая пальцем соответствующую позицию в книге. Понемногу дискуссия делалась жарче, стало заметно с трудом сдерживаемое негодование. Оба закусывали губу, сигары свисали, горькие и потухшие с лиц, вдруг разочаровывавшихся и исполненных неприязни. Оба содрогались от сдерживаемого возмущения. Отец дышал носом, подглазья его побагровели, волосы над вспотевшим лбом встопорщились. Ситуация обострялась. Был момент, когда оба господина вскочили с мест и, обеспамятев, тяжко засопели, слепо сверкая очками. Мать в испуге принялась умоляюще похлопывать отца по спине, желая предупредить катастрофу. При виде дамы господа опомнились, вспомнили о правилах светского обхождения, с улыбкой раскланялись и снова засели за работу.
Около двух часов пополуночи отец захлопнул наконец тяжелый переплет главной книги. С тревогою пытались мы угадать по лицам собеседников, на чью сторону склоняется победа. Хорошее настроение отца казалось нам наигранным и вымученным, зато чернобородый развалился в кресле со скрещенными ногами, весь дыша благорасположением и оптимизмом. С показной щедростью раздавал он чаевые приказчикам.
Сложив бумаги и счета, господа вставали из-за конторки. Выражение их лиц было многозначительно. Заговорщически подмигивая приказчикам, они давали понять, что полны предприимчивости. Они выказывали охоту к солидной попойке, имеющей произойти втайне от матери. Это была пустая похвальба. Приказчики знали, что́ об этом думать. Та ночь не вела никуда. Она кончалась у сточной канавы, в известном месте, слепой стеной тщеты и стыдливой компрометации. Все тропки, уводящие в нее, возвращались обратно в лавку. Все эскапады, в дали ее пространств предпринятые, еще не начавшись, оказывались с перебитыми крыльями. Приказчики из вежливости отмигивались.
Пылко настроенные, чернобородый и отец, провожаемые снисходительными взглядами приказчиков, взявшись за руки, вышли из лавки. Сразу за дверями гильотина ночи с маху отсекла им головы; оба плюхнулись в ночь, как в черную воду.
Кто исследовал бездну ночи июльской, кто измерил, сколько саженей летишь вниз в пустоту, где ничего не происходит? Пролетев целую эту черную бесконечность, они снова возникли у дверей, как если бы только что вышли, обретя сказненные головы, с еще вчерашним непользованным словом на устах. Невесть как долго стоя этак, они монотонно переговаривались, как если бы вернулись из далекого похода, связанные дружеством мнимых приключений и ночных скандалов. Пошатываясь на обмякших ногах, они жестом гуляк сдвигали на затылок шляпы.
Обойдя стороной освещенный портал лавки, оба, крадучись, вошли в парадное и принялись тихонько одолевать скрипучую лестницу на второй этаж. Таким манером пробрались они на заднюю галерею под окно Адели и стали заглядывать к спящей. Разглядеть ее им не удавалось. Лежа в тени с раздвинутыми бедрами и обеспамятев, она, фанатически присягнувшая сновидениям, спазмировала в объятиях сна, с головою, откинутой назад и пылающей. Они звякали черными стеклами, пели непристойные куплеты. Но Аделя с летаргической усмешкой на приоткрытых губах странствовала, оцепенелая и каталептическая, на своих далеких дорогах, на мили отдаленная и недостижимая.