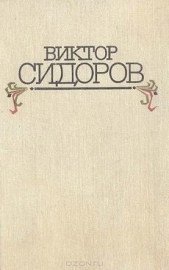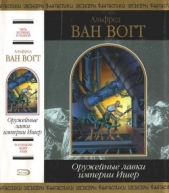Коричные лавки. Санатория под клепсидрой

Коричные лавки. Санатория под клепсидрой читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут, случалось, деревенский мужичок, босой и домотканый, нерешительно останавливался у входа, робко заглядывая в лавку. Скучающим приказчикам только этого и было надо. Как паук, завидевший муху, они мигом спускались с лесенок, и тотчас окруженный, дергаемый и подталкиваемый, засыпаемый тысячей вопросов мужичок со смущенной улыбкой отбивался от настырных приставал. Он чесал в затылке и, улыбаясь, недоверчиво глядел на угодливых пройдох. Табачок, значит, желаете? Который это? Самолучший, македонский, янтарно-золотой? Нет? Стало быть, обыкновенный, трубочный? Махорка? Тогда сюда, сюда пожалте. Не извольте беспокоиться. Сыпля комплиментами, приказчики направляли его легкими тычками в глубь лавки, к боковой стойке у стены. Приказчик Леон, вошедши за прилавок, делал вид, что выдвигает несуществующий ящик. О, как же он трудился, бедный, как закусывал в напрасном усилии губу. Нет! Необходимо было изо всех сил колотить в брюхо прилавка, что мужичок, подзадориваемый приказчиками, проделывал с душой, весь внимание и усердность. Когда же это не помогло, он полез на стойку топать босыми ногами, сгорбленный и седенький. Мы помирали со смеху.
Тогда и случился достойный сожаления инцидент, обернувшийся для всех печально и постыдно. Любой из нас не был без вины, хотя и действовал не по злому умыслу. Всё скорей следовало счесть легкодумностью, отсутствием серьезности и понимания высоких забот отца или нашей опрометчивостью, какая в сочетании с непредсказуемой, уязвимой, склонной к крайностям отцовской натурой, вызвала последствия воистину фатальные.
Пока мы, стоя полукольцом, отменно развлекались, отец тихо проскользнул в лавку.
Мы проглядели его приход. Мы заметили отца, когда внезапное осознание цепочки событий поразило его молнией и скривило лицо страшным пароксизмом ярости. Прибежала испуганная мать: — Что с тобой, Иаков? — воскликнула она, обомлев, и в отчаянии хотела похлопать его по спине, как делают, когда кто-то подавится. Но было поздно. Отец нахохлился и съежился, лицо его быстро распадалось на симметрические элементы ужаса, неудержимо окукливаясь на глазах под бременем непостижимой катастрофы. Прежде чем успели мы понять, что произошло, он вдруг завибрировал, зажужжал и метнулся перед нами чудовищной гудящей мохнатой сине-стальной мухой, стукавшейся в безумном лете обо все стены лавки. Потрясенные до глубины души, внимали мы сирому плачу, красноречиво модулированной глухой пене, пробегающей вверх и вниз по всем регистрам безутешного горя и неразделенного страдания под темным сводом лавки.
Мы стояли в замешательстве, стараясь не глядеть друг на друга, основательно устыженные столь прискорбным фактом. В глубине души мы чувствовали некоторое облегчение, ибо в критический момент он все же нашел выход из приключившегося конфуза. Мы поражались бескомпромиссному героизму, с каким, не раздумывая, кинулся он в тупик отчаяния, из которого, казалось, нет пути назад. Вообще-то поступок отца следовало принять cum grano salis. Это был скорее жест внутренний, действия внезапные и отчаянные, оперирующие все-таки минимальной дозой действительности. Не следует забывать: большую часть того, о чем здесь рассказывается, можно отнести за счет летних аберраций, каникулярной полудействительности, безответственных маргиналий, негарантированно происходивших на пограничьях мертвого сезона.
Мы в молчании слушали. Это была рафинированная месть отца, его возмездие нашей совести. Отныне и навсегда мы были приговорены внимать это печальное низкое гудение, сетующее все настойчивей, все горестней, и внезапно молкнущее. Какой-то момент мы с облегчением наслаждались милосердной паузой, в продолжение которой в нас просыпалась робкая надежда. Но мгновение спустя оно возникало снова, безутешное, еще более жалобное и раздраженное, и мы понимали, что для столь неизбывного горя, для этой гудящей анафемы, обреченной на неприкаянное стуканье о стены, не было ни срока, ни утешения. Глухой к увещеваниям плаксивый монолог и паузы, в которые он, казалось бы, на какое-то время забывал о себе, чтобы затем очнуться с более громким и гневным плачем, как если бы отчаяньем опровергал миновавшую минуту успокоения, раздражали нас невероятно. Страдание, которому нет границ, страдание, упрямо замкнутое в кольце собственной мании, страдание, в самозабвении и ожесточении само себя бичующее, становится в конце концов непереносимо для беспомощных свидетелей несчастья. Этот несмолкаемый гневный призыв к нашему состраданию таил слишком явный упрек, слишком явное обвинение собственному нашему благополучию, чтобы не вызвать протеста. Внутри себя мы были несогласны, полные ярости вместо раскаяния. Неужели и правда для него не оставалось иного выхода, как безоглядно ввергнуться в состояние прискорбное и безнадежное, и разве, впавши в него по своей или нашей вине, не мог он продемонстрировать бо́льшую твердость духа, бо́льшее достоинство и сносить все безропотно? Мать с трудом сдерживала гнев. Приказчики, сидя на лесенках, в тупом оцепенении кроваво мечтали, мысленно гоняясь с мухобойкой по полкам, и глаза их наливались красным. Полотняная маркиза над порталом ярко волновалась в зное, послеполуденная жара неслась милями светлой равнины, опустошая под собой далекий мир, а в полумраке лавки, под темным потолком кружил мой отец, безнадежно заплутавший в петлях своего лета, сам себя впутывавший в отчаянные зигзаги собственной гоньбы.
Как мало вообще-то значат, вопреки впечатлению, подобные эпизоды, видно из того, что уже вечером отец мой, как всегда, корпел над своими бумагами — инцидент, казалось, был давно забыт, глубокая травма пережита и похерена. Разумеется, мы воздерживались от каких-либо намеков. Мы с удовлетворением наблюдали, как в полном с виду равновесии духа, в безмятежном как бы созерцании, он старательно заполнял страницу за страницей своим каллиграфическим ровным почерком. Тем трудней, однако, было уничтожить следы компрометирующей личности бедного мужичонки — известно, сколь цепко укореняются подобного рода последствия на определенных почвах. В продолжение тех пустых недель мы намеренно глядели мимо него, пляшущего в темном углу на прилавке, ото дня ко дню уменьшавшегося, ото дня ко дню становившегося незаметней. Почти неразличимый на своем посту, добродушно улыбающийся, ссутулившийся над прилавком, он все еще дергался на том же месте, стучал, не обнаруживая усталости, внимательно вслушивался и что-то тихонько бормотал. Стук стал ему истинным призванием, чтобы безвозвратно с ним исчезнуть. Мы не мешали. Слишком он увлекся, чтобы можно было досягнуть до него.
У летних дней не бывает сумерек. Не успевали мы оглянуться, как в лавке наступала ночь, зажигалась большая керосиновая лампа, и лавочное дело продолжалось. В эти короткие летние ночи идти домой не имело смысла. Пока проходили ночные часы, отец, с виду сосредоточенный, сидел и прикосновениями пера метил поля писем черными стремительными звездочками, чернильными чертиками, мельтешащими в поле зрения косматыми пушинками, атомами темноты, оторванными от большой летней ночи за дверями. Задверная эта ночь пылила, как дождевой гриб, в тени абажура сеялся черный микрокосм тьмы, заразная сыпь ночей летних. Очки слепили отца, керосиновая лампа висела позади них, как пожар, очерчиваемый сумятицей молний. Отец ждал, ждал нетерпеливо и вслушивался, уставясь в яркую белизну бумаги, сквозь которую плыли темные галактики черных звезд и пыли. За спиною его, как бы само по себе, разыгрывалось великое действо о проблемах лавки, удивительным образом совершаемое на картине, висевшей за его головой, между картотекой и зеркалом, в светлом свете керосиновой лампы. Это была картина-талисман, картина непостижимая, картина-загадка, бесконечно интерпретируемая и переходившая из поколения в поколение. Что же на ней было? Нескончаемый диспут, ведущийся исстари, никогда не прекращаемая пря двух противоположных принципов. На полотне друг против друга стояли два купца, две антитезы, два мира. — Я продавал в кредит, — восклицал худой, оборванный и безумный, и голос его срывался от горя. — Я продавал за наличные, — отвечал толстый в кресле, заложив ногу на ногу и вертя большие пальцы сплетенных на животе рук. Как же ненавидел отец толстого! Он знал их с детства. Уже на школьной скамье он был полон отвращения к раскормленному эгоисту, поедавшему на переменах бесконечное количество булок с маслом. Но не соглашался он и с худым. В недоумении глядел он, как ускользала из рук инициатива, перехваченная обоими дискутантами. Затаив дыхание, неподвижно кося из-под сдвинутых очков, ожидал отец результата, нахохленный и весьма задетый за живое.