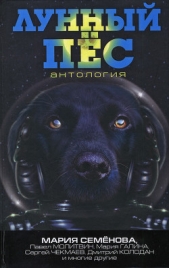Собрание сочинений. Т. 3

Собрание сочинений. Т. 3 читать книгу онлайн
Сергей Бочаров: …В позапрошлом веке было такое – «Среди долины ровныя…», «Не слышно шуму городского…», «Степь да степь кругом…». Тогда – «Степь да степь…», в наше время – «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Новое время – новые песни. Пошли приписы- вать Высоцкому или Галичу, а то кому-то еще, но ведь это до Высоцкого и Галича, в 50-е еще годы. Он в этом вдруг тогда зазвучавшем звуке неслыханно свободного творче- ства – дописьменного, как назвал его Битов, – был тогда первый (или один из самых первых).«Интеллигенция поет блатные песни». Блатные? Не без того – но моя любимая даже не знаменитый «Окурочек», а «Личное свидание», а это народная лирика. Обоев синий цвет изрядно вылинял, в двери железной кругленький глазок, в углу портрет товарища Калинина, молчит, как в нашей хате образок … Дежурные в глазок бросают шуточки, кричат ЗК тоскливо за окном: – Отдай, Степан, супругу на минуточку, на всех ее пожиже разведем . Лироэпос народной жизни. Садись, жена, в зелененький вагон…В те 60-е бывало так, что за одним столом исполняли свои песни Юз Алешковский (не под гитару, а под такт, отбиваемый по столу ладонями) и Николай Рубцов. И после «Товарища Сталина» и «Советской пасхальной» звучали рубцовские «Стукнул по карману – не звенит…», «Потонула во мгле отдаленная пристань…» (Я в ту ночь позабыл все хорошие вести, все призывы и звоны из кремлевских ворот, я в ту ночь полюбил все тюремные песни, все запретные мысли, весь гонимый народ… – впрочем, это до- письменное нельзя прописывать текстом вне музыкального звука). Аудиторию же составляли Владимир Соколов, Вадим Кожинов, Лена Ермилова, Ирина Бочарова, Ирина Никифорова, Андрей Битов, Герман Плисецкий, Анатолий Передреев, Станислав Куняев, Владимир Королев, Георгий Гачев, Серго Ломинадзе… Попробуем представить уже лет 15 спустя эту компанию за одним столом
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Все ж таки неописуемо великодушны сердца гонимого и вечно преследуемого враждебными вихрями русского человека! – воскликнул вдруг Степан Сергеевич. – Этот змей-портупей отключает нас, как тунеядцев, от электрификации всей страны, а мы его сейчас поить и кормить будем прыг-скоком Бонапарта.
– У человека – не сердца, в смысле грамматики, а одно лишь сердце. Сердца же – у многих людей, – только и возразил весьма отвлеченно участковый.
– Похищения у государства всенародных киловатт я сегодня не видел, но пока крадем мы их на местах, не иметь нам электрифика ции всей страны плюс коммунизма советской власти, – добавил он фальшиво и сурово, но с максимальной сердечностью, вызванной, разумеется, внутренней сломленностью и необходимостью долгожданной опохмелки.
Подобные словесные перестрелки то и дело возникали между моими собутыльниками, и я уже как-то не очень внимал им.
Пока уксус закипал, Федя на глазах моих отчленил от всех жаб – лягушки предварительно лишены были жизни сравнительно благородным способом – задние лапки. Движения его рук, вооруженных ржавым штыком от старого трофейного карабина, были бессознательно пластичными и точными, как, очевидно, у заправского французского кулинара.
Затем он бросил лапки в закипевший уксус. Вынул их из чугунка минут через пять-семь. Выложил в оловянную миску. Посыпал солью, укропчиком, перчиком и облил смесью мутноватого постного масла, размешанного с дурно вонявшей горчицей, которую он, по его словам, спиз-дил в городской столовке.
Степан Сергеевич разлил по кружкам. Вздохнув, помянули мы погибшего Евгения. Жахнули. Согласно вздрогнули всеми мышцами тел, алчущих поддержки в противоречивой жизни и не брезгующих при этом даже такой несовершенной отравой.
– А теперь, мадам и мусье, квакнем, – с большим ап петитом воскликнул Федя. Он страстно заурчал, обгладывая нечто мышцеватое с ошметками кожицы.
Разило от миски шибче, чем от нашатыря, что само по себе было оздоровительно для слабеющего моего дыхания и некоторой аритмии бедного сердца.
Но я, скрипнув зубами, дал жесткий приказ внутренним своим антителам тихо сложить оружие, подчиниться действительности и вспомнить, как, спасаясь от «архипеллагры», неоднократно хавали мы в бедственные годы таежных сов и даже крыс болотных.
Взял я двумя пальчиками лапку и, стараясь при этом не дышать носом, как в вокзальном сортире, кусанул – чтобы не выглядеть, повторяю, столичным фраерюгой – ля-гушатинки.
Это было весьма недурно, но могло бы быть, чисто осязательно, нежней, если лапки вымочены были бы в смеси, скажем, коньяка с оливковым маслом и посыпаны гвоздичкой, кориандром да мускусной пылью… Сочок лимончика с чуточком чесночка достойно увенчал бы дикое блюдо, облагороженное бесстрашной кулинарной выдумкой.
Жахнув еще полкружки, я смело допустил ноздрю к вдыханию аромата сваренных в уксусе амфибий – и ничего.
Только как-то печально стало на душе. Безотчетно и безысходно печально. Думалось о собственном сиротском детстве и даже показалось, что вкус лягушачьей лапки напоминает вкус лапки цыпленка, трагически отставшего от родного выводка и одиноко проблуждавшего целый день в непроходимой болотистой местности по душераздирающе худенькие, невозможно угловатые коленки в ржавой жижице.
– Почему все ж таки все так устроено на Земле, что одно живое существо поедает другое существо, бывшее только что живым, а картошка, которая никого не жрет, но которой все питаются, вырождается в дегенерата? – нарушил минуту ритуального молчания Степан Сергеевич.
– Юкин, я тебя умоляю: ну не инакомысли ты хоть в эту минуту! – взмолился участковый. – Ну какого ты хрена отягощаешь страсть народа выпить и закусить упрямым своим инакомыслием? Дай хоть лапку как следует обсосать. Без тебя в душе – столовская горчица, в уме – уксус сплошной. Советская власть – это одно, а культура выпивки – совсем другое. Если покочумаешь – сообщу тебе на закусь одну сугубо государственную тайну. Клянусь погонами.
– О’кей. Пардон, – с неожиданным смирением сказал Степан Сергеевич, который, подумалось мне, конечно же, нахватался разных словечек в дурдоме от тамошних образованных обитателей – инакомыслящих полиглотов. Правда, он тут же добавил: – Ты запомни раз навсегда, портупея, что Степан не инакомыслящий, а сво-
бодомыслящий, едрена бабка, крестьянин. Это твой Брежневила с политбюро мыслят иначе, чем народ. Мы же отчаянно свободомыслим, хоть жрем самогонище, безбожники адские, и вскоре, видимо, пропьем авансом всю остальную нашу бедственную историю… Помянем, что ли, Жеку.
Мы жахнули еще и еще за помин погибших в этой афганской бойне, примыслившейся, к несчастью народному, каким-то бесчинствующим и слабомерцающим партийно-полководческим мозгам в ихних железобетонных кабинетах.
И сивуха, надо сказать, вновь сделала свое дело. Дух общего, пусть даже временного, здоровья воцарился за нашим столом. Не весельем застольным прониклись мы, нет. Но каждый из нас, уняв головоломность тревожно-мнительных мыслей и внутренне несколько собравшись, – каждый из нас готов был упрямо и весело противостоять дальнейшей неизвестности почти во всех областях личной и общественной жизни.
Должно быть, походили мы на подзаморенных в бою рядовых богатырей, благодарно подкреплявшихся в полевых условиях всем, чем Бог послал, и вновь готовых устало втянуться в дальнейшее затяжное единоборство с какими-то нетопырствующими фантомами нелепой нашей Системы.
Вон, думалось мне тогда под балдой, повсеместно, систематически и принципиально ощерившись, не допускают призраки эти ни крестьянина, ни негоцианта, ни строителя, ни шалопайствующего певца красот Творения к источникам достойного труда и нормальной жизни…
Участковый потянулся было за последней в миске лапкой, которая, казалось, шипела и пузырилась, словно кусок карбида в лужице – такой гремуче-острой была ук-сусно-горчичная приправа к нашей закуси, – но Федя остановил дерзкое движение его властительной, в здешних масштабах, руки:
– Последняя ляжечка – гостю.
Я деликатно дал понять, что вовсе на нее не претендую.
– Пусть администрация дожирает окружающую сре ду, – великодушно сказал Степан Сергеевич и подвинул миску с остатком закуски участковому.
– Что у нас сегодня на третье?
– Смертельное пике
на муху в кислом молоке,
а также отрыжка болотом
с жестокой изжогой
и кишечным переворотом, –
сказал Федя и добавил, обращаясь лично ко мне:
– Не думай, что курей мне на закусь жаль. Жаль мне, к слову говоря, все сухоканающее, небоносимое и водо плавающее. Но с жабой мы, вишь, враз управились.
Лучше удавиться,
чем обдирать тощую дичь
в такую жарищу.
Легче детский галош натянуть
на взрослую голенищу.
– Го-ле-ни-ще, – не преминул поправить участковый.
Федя как бы замер в стойке: спорить или нет? Затем высокомерно заявил:
– Ты преследуй свободу и взятки дери, а де-ре-вен-ский стих не ре-гу-ли-руй. Тебе, мудило, ведомо, что есть рифма?
– Я, Федя, по русскому с литературой надежды подавал и жил даже с нею, то есть с училкой, в третьей четверти десятого класса.
– Видим, чему она тебя, остолопа, обучила. Ну, что есть рифма?
Участковый, начиная слегка заводиться, ответил:
– В зависимости от анапест-дактиля бывает рифма мужская, бывает и женская.
– Хоть ты городовой, но необразованность у тебя деревенская, – сказал Федя, ко всему прочему еще и подкрепляя точную рифму удачным каламбуром. – А я тебе скажу так: