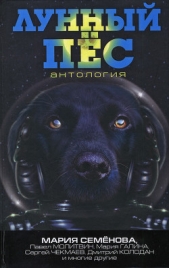Собрание сочинений. Т. 3

Собрание сочинений. Т. 3 читать книгу онлайн
Сергей Бочаров: …В позапрошлом веке было такое – «Среди долины ровныя…», «Не слышно шуму городского…», «Степь да степь кругом…». Тогда – «Степь да степь…», в наше время – «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Новое время – новые песни. Пошли приписы- вать Высоцкому или Галичу, а то кому-то еще, но ведь это до Высоцкого и Галича, в 50-е еще годы. Он в этом вдруг тогда зазвучавшем звуке неслыханно свободного творче- ства – дописьменного, как назвал его Битов, – был тогда первый (или один из самых первых).«Интеллигенция поет блатные песни». Блатные? Не без того – но моя любимая даже не знаменитый «Окурочек», а «Личное свидание», а это народная лирика. Обоев синий цвет изрядно вылинял, в двери железной кругленький глазок, в углу портрет товарища Калинина, молчит, как в нашей хате образок … Дежурные в глазок бросают шуточки, кричат ЗК тоскливо за окном: – Отдай, Степан, супругу на минуточку, на всех ее пожиже разведем . Лироэпос народной жизни. Садись, жена, в зелененький вагон…В те 60-е бывало так, что за одним столом исполняли свои песни Юз Алешковский (не под гитару, а под такт, отбиваемый по столу ладонями) и Николай Рубцов. И после «Товарища Сталина» и «Советской пасхальной» звучали рубцовские «Стукнул по карману – не звенит…», «Потонула во мгле отдаленная пристань…» (Я в ту ночь позабыл все хорошие вести, все призывы и звоны из кремлевских ворот, я в ту ночь полюбил все тюремные песни, все запретные мысли, весь гонимый народ… – впрочем, это до- письменное нельзя прописывать текстом вне музыкального звука). Аудиторию же составляли Владимир Соколов, Вадим Кожинов, Лена Ермилова, Ирина Бочарова, Ирина Никифорова, Андрей Битов, Герман Плисецкий, Анатолий Передреев, Станислав Куняев, Владимир Королев, Георгий Гачев, Серго Ломинадзе… Попробуем представить уже лет 15 спустя эту компанию за одним столом
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…Но иногда, совершенно непредвиденным образом, обретает вдруг головоломствующий обыватель высшую степень всякого мастерства. То есть он любовно доверяет материалу естественное право распоряжения неведомо откуда к нему снизошедшей и неведомо как возникшей в нем самом восхитительной энергией саморазвития.
Вот тогда он, бескорыстно торжествуя и с душевным восторгом, знакомым не только богам, поэтам и живописцам, наблюдает, как ладненько – на кромках и посерединке – восстанавливается из вроде бы вполне безнадежных руин и хаотически разбросанных обломков, скажем, Вермонтский водопад… ночная стража… роща цветущих персиков… гравюра Лиссабона… панорама Хиросимы(виды городов до рокового землетрясения и немыслимого торжества науки)… карта океанов и материков Земного шара(копия Магелланова путеводителя)… кусок звездного неба(первая десятидневка яблочного августа)…
Образ целогоокончательно еще не возник на столе в полной соразмерности частей, родственно слитых друг с другом, с ясно различимыми между ними свежими швами, вызывающими и в моем сердце нежную, радостную боль сопереживания любой удачно оперированной, сращенной плоти. Но вы замечаете вдруг в выражении лица обывателя, занятого праздным, казалось бы, делом, самозабвенную страсть сосредоточения и черты первобытной божественной простоты – простоты поедания хлеба, ис-пития воды и безрассудного согласия человеческого существа с обреченностью на устрашающие тайны трагического бытия.
И в голове вашей… да какое там в голове – всем вашим существом, сами того не понимая, но лишь завороженно – до мурашек по коже – соглядатайствуя, приобщаетесь вы к тому, что, скажем, одинокий слепой воспринимает как счастливую примету правильности невидимого пути, крестьянин-хлебороб – как абсолютное знание всех биохимических тайн сотворения почв и произрастания злаков, влюбленный человек – как истину своего существования, а осчастливленный дивным даром поэт – как знак судьбы, то есть как совершеннейшую единственность рифмы и звука…
Это уж другое дело, что, полюбовавшись всласть на собранное, завтра потратится мирный и социально уравновешенный обыватель на новую собиралку-головоломкуили разрушит от скуки житейской все накануне восстановленное. Разрушит и тут же вновь засядет за его выстраивание, насыщая живущую в своем – то ли к сожалению, то ли к счастью – непросвещенном существе тайную, темную страсть восстановления из пепла и руин целого…
Но бог с ним, со свободным собственником – с американцем.
Вернемся-ка мы в Ельнинский район бывшей Смоленской губернии, в садовый дворик.
С каждою минутой левый кулак Степана Сергеевича все больше и удачней походил на лепное изображение довольно крупной картофелины необычной формы.
Перед тем как наклеить, он – с выражением на лице любви и уважения даже к такому нелепому на первый взгляд мастерству – слюнявил все эти очередные, слегка закурчавившиеся с подсохлых краешков лоскутки кожуры, безошибочно подбирая один к другому.
Получалось все это у него замечательно. Кожурки мундира с кое-где сохранившимися пуговками глазков каким-то образом ладненько примыкали друг к другу, словно в них самих продолжала жить после съедения ихнего родного картофельного плода некая могущественная сила, тоскующая по возобновлению изначальной цельности пусть даже только одной своей сваренной внешней оболочки.
Каких-то три-четыре минуты – и вот уже не кулак держит Степан Сергеевич перед своим поистине вдохновенным лицом, а натуральную картофелину держит он перед лицом своим, еле сдерживая в глазах слезы умиления перед совершенством исполнения ничтожного дела, а также перед еле уловимым, перед остаточным, но все же явным присутствием Духа Искусства Жизни посреди всего того, во что превращено было совместными усилиями наивных утопистов и немыслимых злодеев бесконечно униженное это и изощренно оскорбленное, а некогда скромное буколическое пространство.
Я тихо и покорно наблюдал за всеми действиями Степана Сергеевича, в которых мне тогда, должно быть, виделись не только значительные символические смыслы – например, бессознательное вникание в напрасно опороченное слово « кулак», – но и смутные образы превозмогания нескольких видов уныния: социального, бытового, обыденного и нравственного – самого убийственного из многочисленных наших жизненных уныний.
Должно быть, чуялось мне также в природе странного и уникального увлечения Степана Сергеевича делом восстановления внешнего облика съеденной картофелины нечто, как теперь говорят, архетипическое. То есть то, что тайным образом находится в составе существа человека, но дает знать о себе либо милостиво, либо зверски, когда какие-либо обстоятельства в личной его действительности или в жизни общества становятся в каких-то своих чертах похожими на обстоятельства, на тени обстоятельств, впервые отложенные всем опытом раннего существования в самых сокровенных уголках родовой нашей памяти, в каждой клеточке все еще произрастающего, слава богу, генеалогического нашего деревца…
Хотя, помню, подумалось мне: какая может быть связь между, скажем, въедливыми призраками начала земледельческой эпохи, пережитой первыми оседлыми крестьянскими коленами Степана Сергеевича, между вот этой самодеятельно вылепленною бульбой и тем уродливым распадом достойной сельской жизни, который мы в те дни осоловело воспринимали под тоскливою балдою и о всевозможных сторонах которого не было у нас больше сил болтать беспомощными языками?
– Такие клубни больше тут не родятся. Одна дробь с куста дрищет, – произнес вдруг Степан Сергеевич и плеснул себе еще полкружки свободною рукой. Жахнув, он выдохнул из себя дух сивухи с симпатией и отвращением одновременно. Занюхал дозу своим же лепным кулаком, затем добавил: – На хрена ей, собственно, родиться? Она этого не желает. Не же-ла-ет категорически и ни в жисть. Чего она тут не видала? Чего ей жрать в земле? Химию? Нитрат Нитратыча? Ебала она всю эту химию в… супер-бздилоандигрид фосфат.
Степан Сергеевич даже удивился – до того складно и без запинки произнес он это замысловатое, а главное, не существовавшее до этой минуты в словарных запасниках Отечества словечко.
– Чего, еще раз подчеркиваю, она тут не видела? Физий городских? Они же пригнаны райкомом на нашу картошку насильно. Но ненавидят натурально только ее одну. А она, бедная, еще ведь с лопаты – вся в черных ушибах, словно пьянь вокзальная. А потом?… Внимаешь, Писулькин, что за невыносимая у нас тута деревенская проза?… Потом картофельный несчастный народ от борта до борта вертухается, словно деды наши, бабки и папашки с мамашками в жестоких кузовках энкавэдэ. Последние себе бока отбивает. Потом в телятниках да в столыпинских товарищ Картошкин с товарищем Картошкиной в мундирах драных зябнут, в ишачий хер загибаются, соплей страдальческой исходят. Потом в хранилище их бессердечно бросают. Там они и доходят-фитилят до аврального перебора… Ужас… Говорить не могу… Хошь аминазин жри… Возьмет корреспондент этот членов картофелину осклизлую в руку и думает: что за паскудный оборот веществ в природе? Я ж тебя копал-ненавидел, от микроскопа родного оторван злобной партийной силой, я ж тебя, транспортируя, безбожно терял и побивал, а теперича ты тута бесконечно гниешь, на рынке проституируешь в десятижды дорога, за что же ты все-таки надо мной издеваешься, сучка недокрахмаленная?… Я одному такому члену ученому лопатой врезал по хребтине в полевой дискуссии. Больно, говорю? Вот и ей тоже больно. И еще больней, чем тебе. Потому что не ты ее кормишь, паразитина, а она брюхо твое заполняет благородной полезностью всемирного крахмала… Пятнадцать суток влу-пили мне тогда вместо года, так как пострадавший корреспондент лично покаялся и стал на суде защищать мою немыслимую объективность. Потом его признали диссидентом вроде Солженицына с Сахаровым и чалму повязали мордовскую. На семь лет. Жаль человека. С людьми у нас тоже поступают еще хуже, чем с картошкой. Возьми Афган. Или вон у Федора – баба-счетоводка который уж год ничего в себе не несет, кроме чернил, краденных из правления, и апельсинов из Москвы.