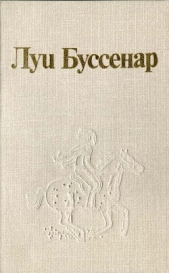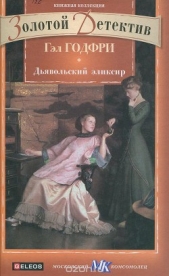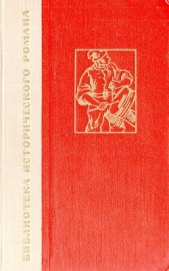История одного крестьянина. Том 1
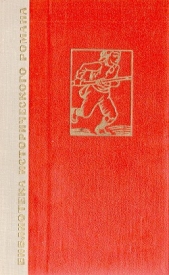
История одного крестьянина. Том 1 читать книгу онлайн
Тетралогия (1868–70) Эркмана-Шатриана, состоящая из романов «Генеральные Штаты», «Отечество в опасности», «Первый год республики» и «Гражданин Бонапарт».
Написана в форме воспоминаний 100-летнего лотарингского крестьянина Мишеля Бастьена, поступившего волонтером во французскую республиканскую армию и принимавшего участие в подавлении Вандейского восстания и беззакониях, творимых якобинцами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Улица уже наполнялась народом: тетушка Катрина, Николь, хозяин Жан, соседи и соседки кричали:
— Шовель — депутат от третьего сословия в Генеральные штаты!
Все были в волнении. Жан Леру вернулся в кузницу, говоря:
— Все мы словно рехнулись — такое торжество в краю. Все из головы вон. Мишель, сбегай-ка, предупреди Маргариту.
Тут я поднялся. Я боялся встречи с Маргаритой, я боялся заплакать, показать ей помимо воли, что люблю ее, не хотел, чтобы ей было стыдно за меня. И уже в сенях остановился, чтобы собраться с духом. Потом только я вошел.
Маргарита в маленькой горнице гладила белье.
— А, это ты, Мишель? — сказала она, с удивлением видя, что я в одной рубахе, потому что я даже забыл надеть куртку и помыть руки.
— Да… Я принес тебе добрую весть…
— Какую же?
— Твой отец избран депутатом от третьего сословия в Генеральные штаты.
Пока я говорил, она так побледнела, что я крикнул:
— Маргарита, что с тобой?
Но она не могла ответить — от радости, от гордости. И вдруг, заливаясь слезами, она бросилась в мои объятия, воскликнув:
— О Мишель, какая это честь для отца!
Я сжимал ее в объятиях, а она обвила мою шею руками, и я чувствовал, как рыдания сотрясают всю ее тоненькую фигурку; ее слезы заливали и мои щеки. Ах, как я любил ее, как хотел удержать навеки. И я твердил про себя: «Пусть только попробуют разлучить нас». И, однако, она должна была уехать — ведь этого требовал отец.
Маргарита долго плакала, потом отпустила меня, побежала за полотенцем, вытерла слезы и, смеясь, сказала:
— Да я просто сумасшедшая! Не правда ли, Мишель? Разве плачут от таких новостей!
Я молчал и смотрел на нее с невыразимой любовью, а она не обращала на меня внимания.
— Ну пойдем, — проговорила она, беря меня за руку.
И мы вышли.
Большая горница «Трех голубей» была полна народа. Не хочется мне описывать ни горячих объятий дядюшки Жана, тетушки Катрины и Николь, ни поздравлений именитых людей — верзилы Летюмье, старика Риго, Гюре. В тот день харчевня ни минуты не пустовала, до девяти часов вечера жители Лачуг: мужчины, женщины, дети — входили и выходили, подбрасывая шляпы, колпаки, спотыкаясь и крича так, что слышно было и в деревушке Сен-Жан.
Звенели стаканы, бутылки, пивные кружки, зычный голос дядюшки Жана выделялся в этом шуме, раскаты смеха не утихали; ликование было неописуемое.
Я твердил про себя, видя все это: «Какой же, однако, ты подлец. Вся деревня радуется счастью Маргариты и Шовеля, все довольны, а ты умираешь от горя. Как это гадко».
Лишь Валентин был невесел, под стать мне; он говорил:
— Полное потрясение всех основ. Всякий сброд будет теперь при дворе… господа смешаются с голытьбой. Уже никто ничего не уважает… кальвинисты избираются вместо христиан… Конец света близок.
И я в безысходной тоске совсем пал духом и не мог оставаться здесь, среди людей. Да и Маргарите пришлось спастись бегством на кухню, но даже туда входили именитые люди — выразить ей свое почтение. Я схватил шапку и выбежал из дома. Зашагал я куда глаза глядят — через поля вдоль большой дороги.
Вот уже две недели стояла хорошая погода, овсы зазеленели, хлеба начали подниматься. Вдоль плетней щебетали малиновки, а в воздухе висели жаворонки, заливаясь своей извечной радостной песней. Солнце и луна не останавливались из-за меня. Горе мое было безутешным.
Два-три раза я присаживался у обочины дороги, в тени плетня, обхватив голову руками, и думал. И чем больше я раздумывал, тем сильнее становилась моя тоска. Я нигде не видел спасения, — так горемыки, потерпев бедствие в открытом море и видя лишь небо да воду, восклицают:
— Кончено… Теперь остается только умереть.
Так думал и я — все остальное было мне безразлично.
Наконец поздним вечером, уж сам не знаю как, я вернулся в деревню и оказался на задах нашего дома. Далеко, на другом конце улицы, по-прежнему раздавались крики и песни. Прислушиваясь, я говорил себе:
— Кричите, пойте… вы правы!.. Жизнь — никчемная штука.
И я вошел в хижину. Отец и мать сидели на своих низеньких скамейках, она пряла, а он плел корзину. Я пожелал им спокойной ночи. Батюшка, взглянув на меня, воскликнул:
— Как ты бледен, Мишель! Не болен ли ты, сынок?
Я не нашелся что ответить, а мать, усмехаясь, проговорила:
— Э, да разве ты не видишь — он пьянствовал со всеми остальными. Тоже ухватил свою долю в честь Шовеля.
С горечью в душе я ответил:
— Да, вы правы, матушка, я не в себе. Перепил… Вы правы. Как не воспользоваться удобным случаем.
Тут отец ласково сказал:
— Что ж, сынок, ступай спать. Все пройдет. Спокойной ночи, Мишель.
Я поднялся по лестнице, держа небольшую лампу из белой жести; я шел в изнеможении, опираясь рукой о колено. И там, наверху, поставив лампу на пол, я некоторое время смотрел на своего братишку Этьена, который безмятежно спал, закинув русую голову на подушку в грубой холщовой наволочке, полуоткрыв ротик, разметав густые длинные волосы. Я смотрел на малыша и думал:
«Как он похож на батюшку! Господи, как похож!»
Я поцеловал его и, тихонько плача, все повторял про себя:
«Что ж, отныне я буду работать только ради тебя! Раз меня покидают, раз я обездолен, буду стараться для тебя. И, может статься, ты будешь счастливее: та, которую ты полюбишь, не уедет от тебя, и мы заживем все вместе».
Потом я разделся, лег рядом с ним и всю ночь напролет продумал о своем несчастье, твердя про себя, что мне надо взять себя в руки, что никто не должен знать о моей любви к Маргарите, иначе я не оберусь стыда, что мужчина должен быть мужчиной, и так далее. Наутро я спозаранок с невозмутимым видом явился в кузницу, решив держаться стойко. И приободрился.
В тот день снова люди приходили с поздравлениями и не только жители Лачуг, но и все именитые горожане — чиновники из мэрии, городские советники, члены суда, синдики, секретари, письмоводители, казначеи, сборщики и контролеры, господа нотариусы и клеймовщики из лесного ведомства. И еще бог весть кто.
Все эти господа, которых до того никто и в глаза не видывал, приходили целой вереницей в треуголках, огромных пудреных париках, держа длинные тросточки с набалдашниками из слоновой кости, в ратиновых сюртуках, шелковых чулках, жабо и кружевах. Они слетались — так по осени ласточки слетаются на колокольню, — они спешили выразить свое почтение мадемуазель Маргарите Шовель, дочери депутата нашего бальяжа в Генеральные штаты. Вид у них был такой радостный, будто наши выборы их касались! Какая гнусность! Харчевня и вся округа наполнились запахом мускуса и ванили, которыми они были надушены. Я частенько потом думал, что они похожи на кукушек, которые устраиваются в уже готовом гнезде, хотя не принесли для него ни соломинки, их дело — воспользоваться благами без всякого труда и с помощью угодничества получить хорошие места. До выборов они нас не замечали, а теперь предлагали нам свои услуги, полагая, что Шовель в Версале сможет возместить им все в двукратном, троекратном размере. Ах, негодяи! Видеть я их не мог без возмущения.
Мы с Валентином работали у кузницы, пока дядюшка Жан, Маргарита и тетушка Катрина принимали всех этих знатных людей. Через открытые окна мы видели, как они кривляются, и Валентин, пожелтев от негодования, говорил:
— Взгляни-ка, вон господин синдик такой-то, а вон господин клеймовщик отвешивает поклон. Посмотри, какая поза, какая манера кланяться. А вот он кладет понюшку мартиникского табаку на большой палец, а вот отряхивает табак с жабо кончиком ногтей — это он перенял у господина кардинала, но может пригодиться и у кабатчика — понравиться дочке господина депутата Шовеля. А вот он повертывается на каблуках и отвешивает общий поклон.
Валентин хохотал, я же бил по наковальне, не оглядываясь. Я задыхался от ярости. Теперь я видел еще отчетливее, какое расстояние отделяет меня от Маргариты. Жители Лачуг могли и заблуждаться, приписывая такое большое значение депутату третьего сословия в Генеральные штаты; но все эти господа разбирались во всем и не стали бы кланяться да угождать просто так. Маргарите оставалось только выбирать! Я даже нашел, поразмыслив, что она сделала бы ошибку, если бы вышла замуж за подручного кузнеца, а не за сына советника или синдика. Да, это мне казалось вполне естественным, и я огорчался еще больше.