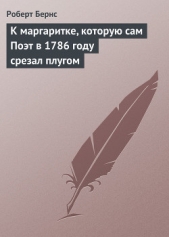Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы

Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы читать книгу онлайн
В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но она действительно была рассудительна, была само всепрощение, ибо не умела верить, что действительность может быть столь дурна.
— Это был сон, — сказала она, — только сон, и ничего больше. Разве ты виноват в том, что случается с тобою во сне?
— Но жить с этим сном далее невозможно. Скажи, Этелка, разве не сумасшедший тот, кто видит подобные сны?
— Сны приходят, приходят сами по себе, кто знает откуда, никто не властен над своими сновидениями.
— Но этот сон приходит откуда-то из моей, из моей души! Скажи, Этелка, вправе ли мечтать о тебе тот, кого терзают подобные воспоминания?
— Мы сами не ведаем своей души, и кто решится утверждать, будто знает доподлинно, что живет в ней? Ты и не подозреваешь, Элемер, сколько дурных помыслов — и каких помыслов! — смущали и мою душу, когда я была еще совсем девочкой! Мысль не удержишь под стражей, она летит, как злая птица, у каждого, кого ни возьми, полна голова дурными мыслями. Надобно прощать то, что есть в нас дурного, а самым лучшим делиться с другими и принимать от других.
— О, как ты добра, Этелка! Но я, я не могу так жить дальше, я не могу жить так рядом с тобой.
— Послушай, Элемер. Тот другой, писец, который принес тебе столько горя, который согрешил против тебя — и против тебя тоже! — он всего-навсего злобный кошмар, тень, которая не заслуживает милосердия. Убей его! Убей, скажи ему, внуши, чтобы он убил себя, отчего ты давно уже не позволил ему погибнуть?
— Погибнуть?!
— Убив его, ты останешься один! Поверь, когда-нибудь мы еще посмеемся над этой историей. Давай же накажем его, приговорим к смерти. И да сгинет с ним вместе и сон твой, твои суеверные фантазии. Убей его! И ничего не бойся, ты останешься один, ты будешь только моим!
— До сих пор я только и делал, что старался ему помешать, не дать уйти из жизни, вырывал револьвер из его рук. Я боялся.
— Больше ты не будешь бояться.
…Я больше не буду бояться. Сегодня писец, когда он проснется там, в гостинице, возьмет в руку револьвер и убьет себя. Я знаю это непреложно, я чувствую, что воля моя, воля Элемера Табори, так сильна, что он не может, не сумеет воспротивиться ей.
Ведь все зло во мне, только во мне: так почему моя воля не в состоянии помочь беде? Отчего я не могу властвовать над своим собственным сознанием?
Спокоен ли я? Не могу этого сказать. Я не смею надеяться поверить в жизнь, в счастье. Как бы мне того ни хотелось, я в сущности не могу поверить, что все это был лишь сон. Я боюсь, очень боюсь, что это утро, которое уже пробивается сквозь занавески, заставляя бледнеть свет моей лампы, — мое последнее утро. Я боюсь, что, если сейчас усну, то уже не проснусь. Но воля моя непреклонна. Если все так, если этот кошмарный сон все-таки не совсем сон — тогда я все равно уже не смогу так жить дальше!
Сегодня все решится. Сегодня писец убьет себя.
XI
Дорогой друг, три года назад я впервые рассказал тебе о записках Элемера Табори. Как раз тогда и случилась та таинственная трагедия, о которой писали в газетах: он был найден в своей комнате мертвым с простреленным лбом, но нигде вокруг не было никакого оружия. Что могло это быть? Расследования не дали никаких результатов.
Я долго хранил в тайне эти записки, хотя покойный завещал мне использовать их по моему усмотрению, так что я мог бы тогда же издать их. Однако я ждал, пока катастрофа эта несколько позабудется и героя уже не узнают. Все имена я изменил. Но ты будешь знать, о ком идет речь. Позволь же мне послать эти печальные страницы тебе — человеку, который, я в этом уверен, прочитает их с интересом и состраданием.
Перевод Е. Малыхиной.
РОЗОВЫЙ САД
(Провинциальная комедия)

Не следует думать, будто писатель знает о своих героях ровно столько, сколько излагает в романе. Естествоиспытатель по единственной уцелевшей кости способен реконструировать и полностью воссоздать облик ископаемого животного. Аналогичным образом обстоят дела и с человеческим существом: в любой его незначительной фразе или поступке скрыта вся его жизнь. Стоит воспроизвести в памяти какой-либо жест человека, и перед нами предстанет вся его судьба.
Предпосылаю своему повествованию сии выспренние сентенции лишь потому, что собираюсь вести речь о Франци Грубере — том самом, о котором я как-то обмолвился мимоходом в одном из своих романов, и судьба его с той поры не дает мне покоя: отчего она сложилась именно так, а не иначе? В жизни и общественном мнении городка Шот Франци Груберу была отведена весьма незначительная и курьезная роль: старый селадон на правах вечного юнца — фигура комическая и грустная, невзирая на солидную должность трибунального судьи (он был коллегой блистательного и безукоризненно корректного Мишки, о котором, если вы помните, я подробнейшим образом рассказал все в том же романе).
— Ах, Франци, он знает секрет вечной молодости, — отзывались о нем с напускной завистью, и отзыв этот, пожалуй, вошел даже в его служебную аттестацию. Почтенный судья — а сам увивается за зелеными девчонками, играет в «цветочный флирт», будто двадцатилетний юрист-практикант, и обменивается с барышнями невинным поцелуем за игрой в фанты… А между тем затянувшаяся молодость в ту пору еще не вошла в моду, и в таких городах, как Шот или Гадорош, молодым приходилось не так-то легко, и люди в большинстве своем стремились поскорее избежать этого состояния: жениться, отрастить брюшко, пристраститься к курению, — иными словами, изъять себя из обращения и удалиться на покой. То-то облегчение наступало! Словно для сыщика, которому больше не нужно часами торчать в подворотне, или для солдата, выведенного с передовой. Наконец-то удалось выбраться из-под перекрестного огня, порвать кольцо осады, сбросить с себя бремя ответственности! Актер сошел со сцены. Ему более нет нужды выверять каждый свой жест, являть глазами скорбь или веселье…
Иные из молодых сдавались, попросту устав сопротивляться, либо бросались в объятия Гименея подобно самоубийце, кончающему с собой от страха перед смертью. И задолго до того, как разменять пятый десяток, приохотившиеся к возлияниям жертвы брачных уз сваливались замертво под собственноручно привитыми абрикосовыми деревьями — точь-в-точь античные герои, вкусившие жертвенных напитков. Но и тот, кто не связал себя супружескими узами, выбывал из состязания и приобретал надлежащий вид, то бишь отращивал жирок, потягивал сигару и уходил на покой. В точности так же ведут себя животные, чуя опасность: они стремятся приспособиться к окружающей среде, слившись с нею.
Однако на Франци не сказалась мимикрия. Он остался худющим, словно вечный студент; возраст не придал ему достоинства и уверенности в себе, но лишь усугубил его неловкость. Постарелым, боязливым мотыльком осторожно порхал он вкруг опостылевших огоньков. Учтивая сдержанность Франци вызывала хихиканье юных барышень. Губы его застыли в бесстрастной улыбке, длинные пальцы нервно крошили сигарету.
— Отчего бы тебе не перейти на сигары, Франци? Это сразу прибавило бы тебе солидности.
Но Франци не выносил сигар, равно как и праздных вопросов.
— Когда же ты женишься?
Этот вопрос даже вгонял его в краску. В ответ Франци бормотал нечто невразумительное, и его смущение лишь подливало масла в огонь.
— Неспроста это, Франци, ох, неспроста! — говорили ему, ненароком встретив его под окном какой-нибудь барышни.
После чего он обходил злополучный дом стороной и способен был неделями соблюдать эту предосторожность. На улице за горшками с геранью подкарауливали сциллы и харибды. Тут уж не до учтивости, лишь бы ноги унести.
— Должно быть, Франци здорово обжегся смолоду, — судила о нем молва.