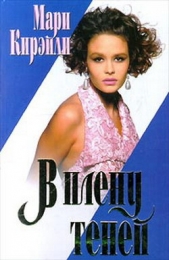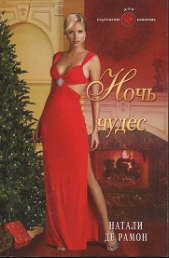Тридцать три урода. Сборник
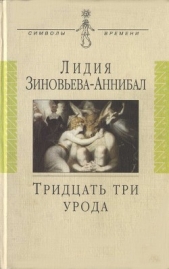
Тридцать три урода. Сборник читать книгу онлайн
Л. Д. Зиновьева-Аннибал (1866–1907) — талантливая русская писательница, среди ее предков прадед А. С. Пушкина Ганнибал, ее муж — выдающийся поэт русского символизма Вячеслав Иванов. «Тридцать три урода» — первая в России повесть о лесбийской любви. Наиболее совершенное произведение писательницы — «Трагический зверинец».
Для воссоздания атмосферы эпохи в книге дан развернутый комментарий.
В России издается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это что же?
Она спросила беззвучным своим голосом совсем бессмысленно. Она же видела, она же слышала.
В ответ я щелкнула еще раз бичом, уже не отступая с ним в свободную сторону, совсем возле нее, и она отстранилась, резко вздрогнув плоскою, широкою грудью в могеровом платке.
— Ты с ума сошла. Или дерзишь? И для чего тебе этот бич?
— Для Руслана и Людмилы.
— Сколько же заплатила?
— Это Коля купил.
— Сколько же он заплатил?
Я вспомнила. Там, у кассы, Коля взял мои деньги, скопленные и скраденные, но еще прибавил своих. Я видела, как он вынул из своего кошелька синюю пятирублевую бумажку, точь-в-точь как мою, и заплатил обе, а мне отдал рубль мой и всю мелочь и сказал:
— Купим его пополам. Половину плачу я.
Коля, Коля! Нет брата добрее! Хорошо, что он не был на том стыдном аукционе.
— Десять рублей, — сообразила я.
Александра Ивановна выпрямилась в кресле, и ровная тусклость ее глаз вдруг засветилась другим блеском, чем тот, который зажигала по ней брезгливая обида на мои обычные грубости, упрямства и «представления»…
Еще недолго до ее слов — она говорила не тотчас — по вспыхнувшему в глазах блеску я поняла, что это гнев и что этот гнев — гнев праведный.
И взбунтовалась.
Потому и взбунтовалась, что впервые восприняла гнев как гнев праведный. Против праведного взбунтовалась, потому что, когда Праведное вызывает, то есть два пути: путь покорности и осанны {59} или путь бунта и проклятия.
И странно мне было, что праведное вдруг оказалось в ней, именно в ней, которая всегда — ничего не понимала настоящего.
Теперь она говорила. И голос ее был необычный — тусклый, но звенел как такой, каким говорят слова праведные.
— Ты дрянная девочка, которая ни разу не подумала о других. Знаешь ли ты, что есть дети, которым нечего есть, и они не могут не только что бичи покупать и на осликах кататься, но души их и мозг остаются темными, и во всем их теле только одна мысль: чего бы поесть, потому что живот их стиснут и постоянно ноет? Ты думала ли, думала ли, что за эти десять рублей можно месяц такую же, как ты, девочку прокормить и ум напитать учением, которое тебе дается в избытке, так что ты бунтуешь против него и мучаешь тех, которых должна благодарить?..
Александра Ивановна говорила еще много, все тем же взволнованным, живым голосом, все такие же праведные и несомненные слова, но уже я не все слышала, потому что чем они становились несомненнее и праведнее, тем ярился злее мой безнадежный бунт, и я, подплясывая, посвистывая и гримасничая уродливо, острой сталью из сердца своего встречала те слова живые и праведные, чтобы пронзить их и чтобы до меня они долетали уже мертвыми и глухонемыми.
— Ты плачешь над канарейками и собачками, но когда рядом с тобою умирают дети, как ты, и ни разу не узнав, что значит радость, — тебе нет дела, ты даже не замечаешь… Если бы вы знали, испытали, хоть раз испытали… если бы богатые сердцем почувствовали и иначе растили бы своих детей… — если бы ты, бездушная девчонка… проклятый он, твой бич, проклятый он, твой бич! А ты, гримасница и паясница, просто дура.
Этого, казалось, и ждало мое сердце, все оно словно вытянулось, вытянулось из груди острой шпагой все в одну сверкающую стальную полоску, вытянулось навстречу злому слову правды, и грубый рот мой крикнул:
— Вы сами дура.
Это был удар моей стали.
Она встала, положила твердую, строгую руку на мое дрожащее плечо и свела меня к двери.
— Выходи.
— Не выйду.
— Выйдешь.
— Не смеете толкаться.
Она толкает. Толкает, даже не чувствуя того, толкает, потому что кровь ее, всегда сдержанная, жизнью дрессированная, вспыхнула и загорелась гневом праведным.
Мы сцепились.
Это было ужасно.
Бунт и Гнев дрались, и Бунт изорвал на груди Гнева могеровый черный платок. Гнев оттрепал Бунт за волосы и вытолкал за дверь, и долго стучался Бунт кулачонками стиснутыми и безнадежно в запертую дверь Гнева, и плакал визжащим тонким воем… собачьим.
III. Красный паучок
Путеводные обманы.
Я услышала эти слова позднее, уже взрослою, от одной из моих подруг, когда призналась ей, что обещали мне пурпурно-огненные крылья зари.
Путеводные обманы! У каждого они возникают и ведут, сказала она, и ведут, и ведут путями мук и путями восторгов, греха и благости, разлук и упований — к истине.
Моими путеводными обманами в ту весну, когда я узнала об изгнании, — были тюфяки…
Вот как это случилось.
Созвали совет из семейных и докторов. Была тетя Клавдия и дядя Андрюша (тот, который любил маму и не любил меня за то, что я ее мучаю), старшие два брата, сестра, она, сама мама, домашний годовой врач и им позванный второй врач, известный психиатр.
Врачи сначала меня раздели и долго выстукивали грудь, живот, спину, колени. Я злилась, стыдилась, но была подавлена неожиданностью и торжественностью.
Потом начала говорить не своим, пугливым и спотыкающимся голосом мама и долго говорила что-то о том, что ни одна воспитательница не могла воспитать меня, и Александра Ивановна тоже отказывается от всякой надежды.
Потом говорила однозвучно, матово и без перерыва Александра Ивановна и все рассказала про бич и про драку, потом дядя, но я уже не слушала, сорвалась с места и, так сдвинув брови, что поперек лба от носа глубоко врылась моя злая складка, — выбежала из комнаты.
Они, конечно, заметили, что, когда эта складка вроется, — нельзя остановить, и меня не преследовали.
Конечно, сидела в шкафу. Под бальными юбками сестры. Только разница с прежними разами та, что не плакала.
Что-то было оскорблено, что-то навсегда было оскорблено, и вот это чувство, что навсегда, — было новым и впервые заставило меня почувствовать себя совсем настоящим человеком.
К ночи, когда они набегались, ища меня, вылезла и прокралась в свою постель, где и нашли меня спящею. То есть, конечно, я представлялась. И даже маме не открыла глаза, даже когда она перекрестила, — не почувствовала. Как бревно.
Занятия с Александрой Ивановной продолжались. День полз по-прежнему; но все стало новым и не настоящим. Это оттого, что не могла быть жизнь прежнею и настоящею, если после бича меня не наказали.
Мне было очень неладно на душе, жутко и совершенно одиноко. Это оттого, что не наказали. Это было так дико, так несправедливо, так невероятно, что вероятнее была «ненастоящесть» жизни.
Конечно, все это только так, только на минуточку, на денечек, на два денечка, и окажется, что она не та, и я не та, и мама тоже, и учебная не та, и что ничего нет.
Просто и решительно, что ничего нет.
Она что-то все писала. Что-то часто заходила к нам прежде не бывавшая мама… Что ей писать? Приносились толстые словари. К чему маме мне улыбаться, проходя через учебную в свою комнату, улыбаться так застенчиво?
Они вышли из учебной, когда Прокофий доложил обед. Меня звали, обе ласковые… Я не пошла сейчас. Сказала, что руки умою за ширмочкой. Сама нырнула к ней.
На ее столе забытый лист почтовой бумаги крупного формата. Ринулась к бумаге: по-немецки.
Гляжу. Подплясывают строчки. Отчего? Чего боюсь? Отгадки. Вот сейчас отгадаю, почему эта вся жизнь не настоящая и какая она вправду. И не хочу.
Не могу.
Хочу оторваться от перечеркнутых подписанных строк немецкого черновика и не могу. Воля толкает, держит над бумагой.
Нужно. Нужно.
Тяжелая воля гнетет к разгадке… навстречу сама идет, чтобы не принимать, но брать.
«Die Gesellschaft von Mädchen ihres Alters unter Eurer frommen Obhut… Das bessere Clima Eurer Heimat… Eure Güte, hochgeehrte Schwester… Die Religionsfrage… Es gebt ja nur Einen Gott für Alle» [75]
Да… Кое-что поняла. Но и меньше могла бы понять и все-таки все понять.