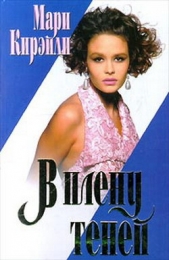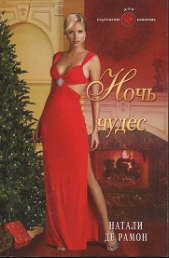Тридцать три урода. Сборник
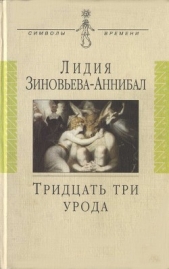
Тридцать три урода. Сборник читать книгу онлайн
Л. Д. Зиновьева-Аннибал (1866–1907) — талантливая русская писательница, среди ее предков прадед А. С. Пушкина Ганнибал, ее муж — выдающийся поэт русского символизма Вячеслав Иванов. «Тридцать три урода» — первая в России повесть о лесбийской любви. Наиболее совершенное произведение писательницы — «Трагический зверинец».
Для воссоздания атмосферы эпохи в книге дан развернутый комментарий.
В России издается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В детской Володиной было тихо и странно. Тикали часы, шуршало в углах и за стеной, пусто и просторно звучали наши голоса, и колотилось в груди сердце…
Строили свой поезд, запрягали лошадей. Смеялись громко и ненужно, бранились не вправду и вдруг смолкали, слушали пустоту, тишину, шорох стен и углов, биение сердца…
Бросили недопряженные стулья, махнули из комнаты в коридор, с раскрытыми глазами, с раздутыми ноздрями вперед мчались, тихо визжа во внезапном диком, спертом страхе и через переднюю на лестницу и по лестнице вниз, все с тем стонущим визгом: ведь стенка из передней стеклянная, и видно им — все видно… Они нас видят, только мы их не видим…
У дедушки.
В проходной гостиной за трельяжем.
Здесь в освещенной скуке между двумя залами, где тетушки, где дядюшки, где братцы и сестрицы, — лучше, гораздо лучше. И отдышавшись на диванчике, затеваем игру. В школу.
Уроки. Эндрю, Люси, Чарли и все учатся.
— Володя, ты видел на стекле?
— Кого?
— Не знаю. Когда мы убегали.
— Что?
— Прижался…
— Глупости. Ты знаешь, тысяча и тысяча сколько будет?
— Две тысячи, мистер Чарли.
— Неправда.
И вдруг розовые щечки мистера Чарли бледнеют в гневе.
— Неправда. Ты не выучила урока, Люси. Тебя наказать! Тебя в чёртов чулан. Тебя высечь…
Я не плачу. Все мальчики удивляются, что я не плачу. Гляжу с безумной смелостью в побелевшее лицо мистера Чарли. У мистера Чарли вздрагивают ноздри и вспыхивают голубые глазки, совсем как когда я его раздразню и он бросается на меня с ножом, с палкой, с камнем, вдруг сильный и страшный. Но теперь не страшно. И тихим голосом шепчу:
— Меня ты не будешь сечь.
Конечно, мальчики смотрят, удивляются, ждут. Их много. Я одна. Я должна поддержать имя царевны… Но мистер Чарли зовет Боба и Джека. Они ведут меня.
Иду. Вижу ведь, что противиться нет смысла. И кричать тоже. Выходим так за трельяж; встречаем одну тетю и двух двоюродных братьев.
— Какое у тебя лицо злое, Верочка!
Еще бы! Они не видят Джека и Боба. Не знают, что Володя — мистер Чарли и зачем меня ведут.
В чулане чёртовом темно и душно. Они бросают меня на пол. Они раздевают меня, чтобы сечь. Все равно, я сама своя, и непобедима. Так и мучеников били, но обидеть не могли. Володя сечет меня своей ручонкой. Это, конечно, ужасно больно. Я не кричу…
И вдруг побеждена. Сама побеждена. Сама хочу так. И мне сладки удары, и душная темнота, и тайна, и жгучий стыд в чёртовом чулане…
Стала с тех пор всякая игра тою игрою. Всякая игра, чтобы можно было сказать друг другу: пойдем играть так-то или так-то. Но глаза наши знали и избегали встречи.
В деревне была палатка. Настоящая палатка: белая с красной каймой. На лугу вбивался шест, и она растягивалась на колышках широко вокруг. Играли в фабрику. На суку лиственницы сидел Володя и бил меня длинным кнутом. Вертелась веревка вокруг дерева, и кружилась моя голова так, что с хриплым стоном я падала на траву. Тогда он ударом носка подымал свою лошадь и гнал ее в палатку.
Лошадь заболела. У лошади удар от солнца и кружение. Ее нужно лечить. В палатке лошадь лечит ветеринар. Володя — ветеринар…
— Вера, отчего ты не такая?
— Я такая.
— Так нет.
— Я могу и такой быть. Только теперь вот не хочу.
Володя благоговеет… Лежу и слушаю, как шмель гудит и шлепается о полотно палатки, и так в груди шлепается сердце, а в голове гудит. А выйдешь из молочного полусвета, где пахнет травой и кореньями, слепит солнце, и заливает щеки жара.
— Володя, зачем люди стыдятся друг друга? Мы не будем.
— Мы никогда не будем.
В доме нашем деревенском большая, двухсветная зала отделена от столовой узенькою, темною диванной. Вправо и влево — как две норы, и совсем почти заполнены двумя маститыми, древними, клеенчатыми диванами. Залезали мы с Володей в последнюю темноту по широкой прохладной клеенке. Я вперед. Он позади.
Если так смотреть в темноту долго, носом приткнувшись к клеенке, то увидишь светленького чёртика: маленький и блестит, как волчий глаз ночью…
За рощей речка в густых кустах. Мы раздевались. Никто не знал. Купались. Глядели. Я хотела хуже. Хуже. Чтобы было всего хуже, и придумывала и удивлялась, что все так выходило не то, что мне хотелось, что было, что должно было быть. И если бы еще могло быть хуже, совсем стыдно, тогда стало бы хорошо.
Мы ходили со своей тайной, где я была сильна и слабостью своею вольною, и властью отказа, где Володя сгорал бессилием и злобою, ходили среди обманутых больших и обманывающих, и было нам смешно, и гадко, и гордо. И я любила смущать больших словами, когда замечала, какие слова смущают их.
Зимою читали что-то… о каких-то народах, их верованиях. Я спросила Александру Ивановну:
— Все верят в своего бога. Почему наш настоящий?
— Я обещала твоей маме не говорить с тобою о религии. Иди спроси ее.
Тогда я поняла и ее тайну, и что Бога не было.
II. Бич
У меня было желание.
Желание мое было — бич. Бич для того, чтобы втыкать в передок карфашки {53}.
Мое желание родилось, когда я, выездив Руслана, катала на нем фельдшерицу, в которую была влюблена.
Выездить Руслана было трудно: большая победа. Телом к телу борьба неравная, уже после того, как из-под опрокинутой карфашки я выползала на свободу и глядела из своей канавы с вожделением на покинутую дорогу, с обидой на упрямого осла. Он же, оборвав упряжные ремни, щипал и жевал сочную траву со степенным благодушием!
К заду подойти и втолкнуть в оглобли было неприятно: Руслан охотно брыкался обоими задними копытами вверх. К морде и держать за повод — бесполезно. Руслан ощеривался и сводил набок всю оголенную розовую челюсть с желтыми еще молодыми зубами, но даже головы не поворачивал и выпяливал на меня сердито свои глаза с лиловыми белками.
Тогда-то и начиналась борьба.
Обняв его серую короткую шею, напрягая свою узкую грудь и упругий живот, я толкала врага частыми, напористыми толчками к косогору, пока не сдвигались упрямые ноги, втиснувшиеся в промозглую землю на дне.
Помявшись на месте и помесив канавную жижицу обеспокоенными копытами, Руслан решался, наконец, откачивался в сторону от меня и медленно взбирался на дорогу.
Двумя прыжками опередив его, я хваталась за жестковолосую холку, вспрыгивала ему на острый хребет, зажимала ногами раздутые бока его сенного брюха, дергала уздечку, гикала и тряским, хитро-мелким скоком подвигалась от покинутой, четырьмя колесами вверх, карфашки — путем знакомым и неотвратимым к конюшне.
Но ко дню рождения моего желания уже далеко позади было геройское время моей борьбы, и казалось: повториться прошлое не могло. Теперь Руслан возил меня рысью и вскачь по дорогам лесным, полевым и деревенским. И я катала поповну, катала дочь управляющего, раз даже Александру Ивановну, мою воспитательницу, очень не любившую канавы, и раз самое ее — фельдшерицу.
А Володю не катала. Володя говорил, что на осле скучно. Но он просто боялся, потому что был труслив.
Вот тогда, когда катала фельдшерицу, оно и родилось — мое желание.
Желание бича!
Бич для того, чтобы втыкать в передок карфашки!
Бич с высоким гнутким стволом, с тонким стройным перегибом и тонким, длинным и крепко сплетенным ремнем.
Я чувствовала его в руке, знала упругие толчки тростникового ствола о сжатые мои пальцы, видела перед собою стройную его линию высоко вверх и перегиб, из которого, конечно, не могла торчать острая палочка, как всегда из моих игрушечных кнутиков.
И отуманило меня с того счастливого утра, когда я катала среди пахучих весенних зеленей свою первую любовь, — родившееся во мне мое желание.
Махала порожней рукой, сжатою в кулак, так решительно вперед, сухим взмахом, и вдруг принимала руку в локте ловким толчком назад. Тогда я слышала, как сухо и остро щелкал вожделенный бич шелковою кисточкой на конце тонкого ремня и ремень, длинный, искусно крученный, резал, зикнув и свистнув, воздух. И глаза мои, даже закрытые в наслаждении и остром страхе, видели, как прял ушами, ужаленный звуком, осел, хлестал хвостом, всем серым телом подаваясь вперед, и я откидывалась, переламываясь в стане, как от резкого толчка моей карфашки.