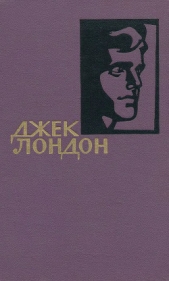Сонаты: Записки маркиза де Брадомина

Сонаты: Записки маркиза де Брадомина читать книгу онлайн
Творчество Валье-Инклана относится к числу труднейших объектов изучения. Жанровое и стилистическое разнообразие его произведений столь велико, что к ним трудно применить цельную исследовательскую программу. Может быть, поэтому Валье-Инклан не стал «баловнем» литературоведов, хотя и давал повод для множества самых противоречивых, резких, приблизительных, интуитивистских и невнятных суждений.
Для прогрессивной испанской литературы и общественности имя Валье-Инклана было и остается символом неустанных исканий и смелых творческих находок, образцом суровой непримиримости ко всему трафаретному, вялому, пошлому и несправедливому.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она вдруг умолкла, грациозно повернула голову и показала мне на рослого белокурого юношу, который весь как-то выгнулся и поклонился.
— Этот господин теперь мой кредитор.
Столь неожиданный поворот дела поверг меня в какое-то глухое уныние, к которому примешивалась и ревность. Я высокомерно спросил:
— А сколько проиграла сеньора?
Я думал, что ее партнер окажется настолько галантным, что не потребует выигранных денег, и хотел даже подсказать ему эту мысль своим холодным и презрительным видом. Белокурый юноша очень вежливо мне улыбнулся:
— Прежде чем начать играть, сеньора предупредила меня, что денег у нее нет. И мы уговорились, что за каждые сто унций она заплатит одним поцелуем. Она проиграла, и я выиграл три поцелуя.
Я почувствовал, что бледнею. Но до чего же я был поражен, когда Нинья Чоле, заломив руки, бледная, с видом трагической героини, воскликнула:
— Я заплачу! Я заплачу!
Движением руки я заставил ее замолчать и, приблизившись к молодому человеку вплотную, закричал, после каждого слова прищелкивая языком, словно хлыстом:
— Сеньора — моя жена, и ее долг — мой долг.
И я ушел, уводя с собой Нинью Чоле. Некоторое время мы шли молча. Потом, прижавшись к моей руке, она прошептала:
— Ты действительно настоящий кабальеро.
Я ничего не ответил. Нинья Чоле стала тихо плакать. Уткнув голову мне в плечо, рыдая в своей неуемной страсти, она вскричала:
— Боже мой! Я не знаю, что готова для тебя сделать!
Сидевшие у дверей хижин индианки в лохмотьях, обвешанные амулетами и коралловыми ожерельями, продавали бананы и кокосовые орехи. Это были тридцатилетние старухи, одряхлевшие и в морщинах, своим фантастическим уродством напоминавшие идолов. Их лоснившиеся спины блестели на солнце; их черные отвислые груди напоминали об оргиях, ведьмах и колдунах. Сидя на корточках у края дороги, с растрепанными волосами, полуобнаженные, они под этим жгучим солнцем, казалось, дрожали от холода. Можно было подумать, что это сивиллы какого-то древнего культа, похотливого и кровожадного. Дети их, совсем бурые от солнца, ловкие, как дьяволята, подглядывали сквозь щели хижин и пробирались под навес, где завывали расстроенные шарманки. Мулатки и крестьянки харочо кружились в странных сладострастных танцах, которые негры привезли с собою из Африки, и их яркие сагалехо колыхались в поворотах и фигурах священных плясов, с которыми некогда приносили в жертву пленных под патриархальною тенью баобаба.
Мы вернулись в хижину. Мрачный и раздраженный, я опустился в гамак и громко приказал конюхам седлать лошадей, чтобы сию же минуту уехать. В дверях показалась темная тень индейца:
— Сеньор, у пегой лошади, на которой ехала госпожа, отскочила подкова. Прикажете подковать ее?
Я вскочил с гамака с такой яростью, что индеец в испуге попятился. Улегшись снова, я крикнул:
— Делайте все, только скорее! Черт бы вас всех побрал, Куактемосин!
Нинья Чоле, побледнев, смотрела на меня с мольбою:
— Не кричи. Если бы ты знал, как ты меня пугаешь!
Ничего не ответив, я закрыл глаза. В темной и душной хижине надолго воцарилось молчание. Негр неслышными шагами ходил взад и вперед, поливая устланный травою пол.
Снаружи доносилось фырканье лошадей и голоса индейцев, которые, взнуздывая их, с ними говорили. В освещенном солнцем проеме двери большие мухи жужжали свою монотонную летнюю песню. Нинья Чоле встала и подошла ко мне. Не говоря ни слова, а только вздыхая, она погладила мне лоб своими пальцами феи. Потом она сказала:
— Скажи, если бы этот русский был настоящим мужчиной, ты мог бы меня убить?
— Нет!
— Ты убил бы его?
— Тоже нет.
— Ты бы ничего не сделал?
— Ничего.
— Это значит, что ты меня презираешь?
— Это только значит, что ты не маркиза де Брадомин.
Она на минуту задумалась. Губы ее дрожали. Я зажмурил глаза и ждал, что она разразится слезами, жалобами, оскорблениями, но Нинья Чоле по-прежнему молчала и только гладила мои волосы, покорная как невольница. Наконец ее пальцы отогнали хмурую тень, которая легла мне на лоб, и я почувствовал, что готов ее простить. Я знал, что грех Ниньи Чоле — извечный грех женщины, и моя влюбленная душа не могла не растрогаться и не снизойти к ней. Разумеется, Нинья Чоле была любопытна и развратна, как жена Лота, превращенная в соляной столб. Но после стольких веков даже суд божий стал милостивее, чем был когда-то, и снисходительнее как к мужчинам, так и к замужним женщинам. Сам того не зная, я поддался искушению: я любовался, точно славою предков, этим многовековым родством, облеченным в покров библейской легенды, и, поверив без колебаний, что провидение простило грех Ниньи Чоле, я понял, что то же самое остается сделать и маркизу де Брадомину. И после того как на сердце у меня не осталось ни обиды, ни неприязни, а невидимые пальцы нежно щекотали меня, я раскрыл глаза и пробормотал улыбаясь:
— Нинья, каким зельем ты меня опоила? Я все позабыл!
Щеки ее зарделись. Она ответила:
— Это потому, что я не маркиза де Брадомин.
Она умолкла, ожидая, быть может, полного любви объяснения. Но я, в свою очередь, предпочел промолчать и решил, что заглажу все, поцеловав ей руку. Обманутая в своих ожиданиях, она отдернула ее, и среди затянувшейся тишины ее прекрасные глаза восточной принцессы оросились слезами. По счастью, слезы эти еще не успели потечь по щекам, когда индеец снова появился в дверях, ведя под уздцы наших лошадей, и я мог выйти из хижины, сделав вид, что ничего не заметил. Когда Нинья Чоле показалась в дверях, она выглядела спокойной. Я подал ей стремя, и несколько мгновений спустя она быстро поскакала.
Какой-то всадник, сделав круг, пересек нам путь. Мне показалось, что, завидев его, Нинья Чоле побледнела и укрылась покрывалом. Я сделал вид, что ничего ее заметил, и молчал, стараясь ничем не выказывать свою ревность. Потом, когда мы выехали на покрытую красной пылью дорогу, я увидел на холмике еще несколько всадников. Как видно, они ожидали нас и, едва только мы начали огибать этот холм, галопом стали спускаться. Заметив это, я придержал лошадь и приказал моим людям остановиться. Ехавший во главе другого отряда всадник что-то свирепо кричал и изо всех сил пришпоривал лошадь. Узнав его, Нинья Чоле вскрикнула и, соскочив с седла, кинулась к нему, простирая руки:
— Наконец-то глаза мои тебя видят снова! Вот я, убей меня! Мой повелитель! Мой царь!
Всадник выпрямился на лошади и, яростный и грозный, ринулся на меня. Нинья Чоле не дала ему подъехать ближе; в страшном отчаянии она ухватилась за поводья:
— Не убивай его! Нет, только не это!
Увидав это последнее свидетельство любви, я был растроган. Я ехал впереди. Люди мои, следовавшие за мною, должно быть, испугались. Всадник, приподнявшись на стременах, пересчитывал их своими жестокими глазами. Наконец он бросил на меня разъяренный взгляд. Готов поклясться, что и ему стало страшно. Не разжимая губ, он поднял хлыст и полоснул им Нинью Чоле по лицу. Она опять застонала:
— Мой повелитель! Мой царь!
Всадник наклонился к седельной луке, где торчали пистолеты. Грубым движением он поднял красавицу креолку, посадил к себе в седло и, подобно похитителю героических времен, ускакал, оглашая воздух страшными проклятиями. Бледный, я в молчании смотрел, как он увозит ее от меня. Я мог бы отбить ее, но я для этого ничего не сделал. При других обстоятельствах я бы неминуемо ввел себя в грех. Но теперь, узнав, кто этот человек, я почувствовал вдруг раскаяние, Нинья Чоле принадлежала этому свирепому сеньору как жена и как дочь, и перед лицом этих двух священных прав сердце мое покорно смирилось.
Навсегда разочаровавшись и в любви и во всем мире, я пришпорил лошадь и помчался галопом по пустынным равнинам Тиксуля в сопровождении моих людей, которые вполголоса обсуждали между собою случившееся. Все эти индейцы с большим удовольствием последовали бы за похитителем Ниньи Чоле. Как и креолка, они были околдованы хлыстом генерала Диего Бермудеса. Я почувствовал, что суровая и скорбная гордость берет во мне верх над всем. Враги мои, те, которые осмеливаются обвинять меня во всех преступлениях, не могут по крайней мере обвинить меня в том, что я дрался из-за женщины. Больше чем когда-либо в жизни я был верен девизу: «Презирать других и не любить самого себя».